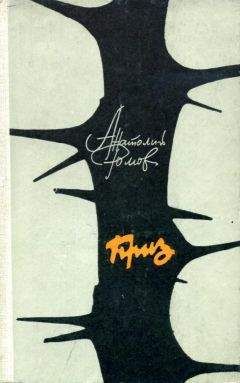— Ты… долго еще будешь здесь?
— Нет… Наверное, дней через пять уедем. Самое большее — через неделю.
Она вздохнула. Он искоса наблюдал за ней — и опять в нем возникла боль. Боль — потому что он видел сейчас совершенство, бесконечное совершенство ее тела. Сильного, стройного и хрупкого — таким и должно быть тело танцовщицы.
— А ты знаешь — я была в Париже.
— Да? — он помедлил. — И… что?
— Ой… Там было прекрасно.
Он задохнулся — его опять мучила ревность. Она была в Париже — и, конечно, не одна. Но ведь нет никаких оснований для ревности… Нет — есть… ее повез туда какой-то мерзавец. Конечно… Появиться с такой девочкой в Париже… Сидеть с ней в кафе, с гордостью показывать знакомым… Сенсация. Да, она была там с каким-то подонком. Это — обычная история. Типа Зиго. Наверное, с каким-нибудь профессиональным обольстителем… Или — еще хуже — с каким-нибудь лысым дураком из департамента культуры. С идиотом… С которым не пойдет даже приличная проститутка. Конечно — он таскал Ксату по барам. Обещал ей «показать Париж». Она же — н а ц и о н а л ь н ы й к а д р. А потом они возвращались в гостиницу.
— Прекрасно?
Ксата покосилась на него. Ее губы дернулись — каждое их движение было сейчас искренне, они не могли врать, не могли обманывать.
— Да. Ну — хорошо… Но…
— Что — но? — он сказал это со злостью.
Она вздохнула. Стала искать что-то на земле. Нашла камешек, аккуратно очистила, сдула песок, положила между ступнями. Потом надавила пяткой — и камешек вошел в землю.
— Мне… не понравилось.
Какое облегчение он испытал.
— Не понравилось?
— Мне… то есть понравилось. Но только, ты знаешь, все… Какое-то чужое. Нет — я понимаю, это все красиво. И… все хорошо. Но вот — я же ничего не могу поделать?
— Да.
— Ну вот.
Он снова задохнулся — но теперь уже от возникшей в нем странной смеси чувств. От грусти, любви, необузданной радости, нежности. Как смешна его ревность. И вообще — как смешно все, что он думает о Ксате. Но он не выдержит сейчас — именно потому, что она прекрасней, чем все его представления о ней. Чем все, что он думал — пока снова ее не встретил.
— Ну, что мы собираемся делать? Сударь? Будем купаться?
Уже услышав это, он снова будто вслушался в то, как она это сказала. Этим ироническим вопросом она будто стряхнула, отогнала хрупкую, невесомую ткань откровения. Это вызвало у него досаду — но не больше.
— Купайся. Я посмотрю.
— Хорошо.
Она посмотрела на свой купальник — и улыбнулась. И он понял, что она хотела бы снять два этих лоскутка.
— Отвернешься?
Его раздражение вдруг перешло в злость. Он видел уже ее обнаженной — тогда, во время танца. Почему же сейчас он должен отворачиваться? И она поняла это. Она прочитала эту злость в его взгляде — и улыбнулась. Она не знала, что сказать ему. Наконец, как ребенка, тронула за плечо:
— Отвернись. Так надо. Ну? Досчитай до трех.
Он молчал.
— Хорошо, — она опустила руку. — Я буду в купальнике. Ты не пойдешь?
— Н-нет, — в горле у него пересохло. Он с трудом выдавил это слово.
Она была прекрасна — и чиста. Он видел сейчас ее тело, оно было таким же, как тогда, два дня назад, когда она танцевала на площади. Только сейчас это тело было без краски — просто оно было закрыто двумя лоскутками. И он не понимал еще, не мог себе представить, как совершенно она сложена.
— Ну? — она улыбнулась. — Подожди. Я быстро.
Да — в этих ее словах была только чистота. Одна чистота — и ничего больше. Но как же могут совмещаться — первобытная торжествующая наглость ее тела — и чистота? Она прыгнула в воду и поплыла к середине озера. Он вдруг ощутил горечь и муку — только оттого, что отказался сейчас прыгнуть в воду, отказался плавать с ней рядом. Как было бы хорошо, извиваясь, плыть с ней рядом в чистой воде. Вдруг он понял, остро почувствовал — он рад оттого, что она сейчас не разделась, это и было той чистотой, которую он от нее ждал.
Сначала он думал о близости с Ксатой как о чем-то несбыточном, недостижимом, немыслимом. Но странно: думая так, он одновременно понимал, что это должно случиться, что они станут близки. Так, будто в этом для него уже не было никакого сомнения — и это уже не удивляло его. Каким-то образом он понимал, что это произойдет. Но — каким? Странно, почему в нем не было удивления? Ведь он страстно желал близости с Ксатой. Он желал этого так, как не мог желать ничего на свете. Но одновременно с этим знал, что преграда, которая стоит между ними и которую они сами воздвигли, упадет не сразу. И захочет ли она — но он ведь чувствовал, что она хотела этого?
Он помнит, когда первый раз почувствовал, что это случится. Это было на четвертый день их знакомства, после того, как они купались. Они долго, до изнеможения плавали в озере, замерзли и лежали теперь рядом, завернувшись в ее накидку. Он почувствовал, как ей холодно, и обнял ее. Теперь ладонями, и кожей рук, и всем существом он ощущал холодную легкость, упругую силу ее тела. Но тело это было сейчас ему чужим. Она лежала на спине, и губы Ксаты выражали странное удивление. Будто она удивлялась сейчас чему-то в себе. Он почувствовал, как весь дрожит от возбуждения — так, что у него стучат зубы. Пересиливая себя, пересиливая это возбуждение, он спросил, заикаясь и стуча зубами:
— Ты ч-ч-что?
— Не знаю, — Ксата казалась испуганной. — Я… не хочу.
— Не хочешь? — спросил он.
Он вдруг прекрасно понял, чего именно она не хочет. Она не хочет близости, не хочет сейчас физического слияния с ним. Она говорит об этом открыто, не стесняясь его. Вот она лежит, прислушиваясь к себе, — и удивлена сейчас этим. Тем, что — не хочет.
— Почему? — спросил он, не осознавая всей нелепости этого вопроса.
— Не знаю, — в ее улыбке опять появилось извинение. Улыбка скоро стала гримасой. — Я не хочу… Просто — не хочу.
Его вдруг охватила радость. Потом радость сменилась испугом, потому что он понял — сейчас ее отказ и недоумение наполнены особым смыслом. Она допускает мысль, она совсем не возражает против того, что они будут близки. Просто сейчас она отказывается от этого. Но отказывается не потому, что он неприятен ей. Наоборот, только потому, что сама она, вернее, ее тело сейчас не хочет близости. Она же сама, о н а — хочет близости и отказывается от нее сейчас потому, что что-то мешает ей. Потому, что она не может на это пойти. Потому, что близостью с ним перейдет какую-то границу, нарушит традиционный обет. Значит — потому, что, отдав ему себя, изменит кому-то, изменит, по понятиям ньоно, целому племени. Конечно, этот отказ и эта традиция давно уже ничего не значат… Но все-таки она решилась что-то н а р у ш и т ь — ради него. Пусть даже что-то незначащее — но именно это вызывает в нем сейчас счастье, нежность, бесконечную, бескрайнюю радость. И в то же время — он чувствует испуг, он боится, что эти прекрасные мгновения пропадут.
— И… не нужно, — сказал он, прижимаясь губами к ее холодному плечу. Он чувствовал, ощущал, как плечо постепенно согревается от его прикосновения.
Ксата посмотрела на него — в ее глазах сейчас было сожаление, мучительное сожаление.
— Но… — она беспомощно пожала плечами. — Поцелуй меня.
Он прижался губами к ее губам. Они были прекрасны, нежны, пахли свежестью и поддались ему — но сейчас он ощутил в них только холод.
— Что же происходит? — она высвободилась.
Она смотрела на него сейчас с недоумением, с упреком. Он же, обнимая ее, чувствовал, как, высвобождаясь, она все-таки доверяет себя его руке. И вдруг понял — что так до конца и не оценил ее красоту, не ощутил бесконечность этой красоты. Почему же эта красота, будучи осознанной, вызывает то странное мучение, которое живет сейчас в нем?
— Я ничего не понимаю… — она легла на спину, почти отстраняясь.
— Ничего… Лежи.
— Но почему? — почти плача, сказала она.
— Это… Так и должно быть. Лежи. Просто — лежи. Хорошо?
— Хорошо, — она успокоилась, прижалась к нему.
Странно — он сейчас куда-то плыл, плыл вместе с ней. И, ощущая, что плывет, уплывает в бесконечность, почувствовал, как она беззвучно плачет.
Он шевельнул рукой, на которой она лежала, как бы говоря ей этим: «не надо». Она сказала, по-детски дыша ему в плечо:
— Когда это случается, исчезает все. Остается только земля. Земля, вода и воздух.
Странно: услышав это, он не испытал ревности.
— У тебя уже было это?
Она промолчала, и он сказал:
— Прости.
— У меня это может быть только с одним мужчиной — и больше ни с кем.
Она лежала молча. Он прислушался к себе — и по-прежнему почувствовал, что плывет куда-то. Он не удивился, когда она спросила:
— Что ты сейчас чувствуешь?
— А ты?
— Знаешь — я куда-то плыву.