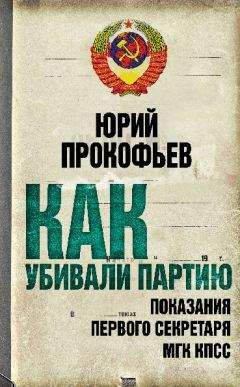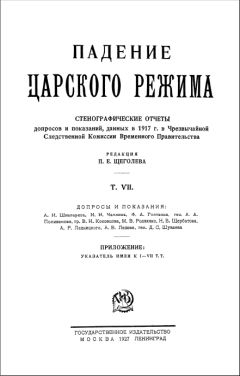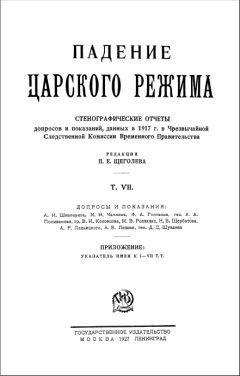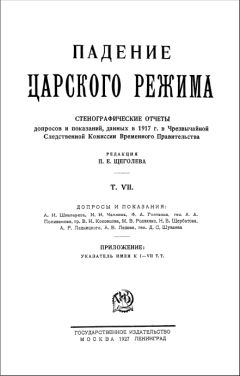Как вы можете прокомментировать показания вашей дочери?
О т в е т. Рассказ Светланы Аллилуевой не может служить доказательством участия товарища Сталина в убийстве Михоэлса. Она могла неправильно расценить услышанные слова. А злонамеренные слухи, распространявшиеся по Москве, вообще не могут быть приняты во внимание.
В о п р о с. Следствие предъявляет вам письмо Л. П. Берии от 2 апреля 1953 года, адресованное Председателю Президиума ЦК КПСС Г. М. Маленкову:
«В ходе проверки материалов следствия по так называемому „делу о врачах-вредителях“, арестованных бывшим Министерством государственной безопасности СССР, было установлено, что ряду деятелей советской медицины, по национальности евреям, в качестве одного из главных обвинений инкриминировалась связь с известным общественным деятелем — народным артистом СССР Михоэлсом. В этих материалах Михоэлс изображался как глава антисоветского еврейского националистического центра, якобы проводившего подрывную работу против Советского Союза по указаниям из США…
В процессе проверки материалов на Михоэлса выяснилось, что в феврале (так в оригинале письма. — Примеч. авт.) 1948 года в гор. Минске бывшим заместителем министра госбезопасности Белорусской ССР Цанавой по поручению бывшего министра госбезопасности СССР Абакумова была проведена незаконная операция по физической ликвидации Михоэлса. Об обстоятельствах проведения этой преступной операции Абакумов показал: „В 1948 году Глава Советского правительства И. В. Сталин дал мне срочное задание — быстро организовать работниками МГБ СССР ликвидацию Михоэлса, поручив это специальным лицам. Тогда было известно, что Михоэлс, а вместе с ним и его друг, фамилию которого не помню, прибыли в Минск. Когда об этом доложили И. В. Сталину, он сразу же дал указание именно в Минске и провести ликвидацию Михоэлса… Когда Михоэлс был ликвидирован и об этом было доложено И. В. Сталину, он высоко оценил это мероприятие и велел наградить участников орденами…“
Вы подтверждаете показания Берии и Абакумова?
О т в е т. Товарищ Сталин полагает, что их показания вызваны стремлением избежать ответственности за собственные преступления, переложить вину за них на товарища Сталина.
В о п р о с. Помимо показаний Берии и Абакумова, в распоряжении следствия имеются свидетельства, доказывающие, что приказ о физической ликвидации Михоэлса был отдан лично вами. Вы по-прежнему намерены отрицать свою вину?
О т в е т. Товарищ Сталин не является по образованию юристом. Но товарищу Сталину известно, что обвинение в таком преступлении, как убийство, не может считаться доказанным, если в ходе следствия и суда не выявлен и документально не подтвержден мотив преступления. Товарищ Сталин не намерен давать по этому поводу никаких показаний. Товарищ Сталин никогда ни с кем не обсуждал обстоятельств гибели этого талантливого комедианта. По мнению товарища Сталина, употребление слова „комедиант“ по отношению к Михоэлсу оправдано тем, что он сам, как известно из воспоминаний В. И. Немировича-Данченко, любил называть так всех актеров и самого себя. Следствие не сможет получить ответ на вопрос о мотивах убийства Михоэлса и из воспоминаний товарища Сталина. Потому что товарищ Сталин не писал мемуаров…»
Да, диктаторы не пишут мемуаров. Историю их жизни пишут нежелательные свидетели и жертвы преступлений. Эти показания и дают возможность суду истории вынести справедливый и не подлежащий обжалованию приговор.
Сталин не любил играть в шахматы. Пустое занятие. Глупое. Все в этой древней игре казалось ему несуразным и раздражающим. Незыблемость правил. Почему пешка может ходить только вперед и бить на одно поле влево и вправо? Почему только так, буквой «Г», может ходить конь? Почему самая сильная фигура — ферзь, королева, а не король? И самая большая и непонятностью своей раздражающая несуразность: неизменность значения каждой фигуры. Как это может быть? Проходная пешка может превратиться в ферзя, а почему ферзем или королем не может стать офицер-слон или ладья? Почему король может только погибнуть, оставшись без защиты, а не может превратиться в пешку? Глупо. Нежизненно. Какое-то вековое дремучее заблуждение — что шахматы подобны жизни. Если так, то гроссмейстеры, умеющие просчитать ходы противника наперед, должны были становиться главами правительств, вождями. А есть ли среди гроссмейстеров или даже чемпионов мира хоть один, кто стал бы заметным политическим деятелем? Нет таких. А почему? А вот как раз поэтому. Люди — не пешки. Карьеры и жизни многих незаурядных политиков обращались в прах именно потому, что они, как шахматисты, не допускали мысли, что пешки могут взбунтоваться, а верный офицер только выжидает момент, чтобы нанести смертельный удар в спину.
Глупая игра. Пустое занятие. Средство для недалеких людей потешить свое самолюбие.
Сталин не любил играть в шахматы не потому, что не умел. Умел. И для него не было загадкой даже то, что потрясало воображение всего мира в 30-е годы: сеансы одновременной игры на десятках досок вслепую, которые давал чемпион мира Александр Алехин. Одновременно. На десятках досок. Вслепую — не только не глядя на доски, но даже не имея перед глазами записи партий. Феноменально. Необъяснимо. Русский гений. Как можно держать в памяти ежеминутно меняющуюся позицию на десятках шахматных полей? И не просто держать — просчитывать варианты в каждой, находить единственно верный, победный ход! Помнить каждую из сотен деревяшек на тысячах черно-белых клеток — необъяснимо! Слушая эти разговоры, которые велись даже в Кремле и в кулуарах ЦК, Сталин соглашался: да, гений, досадно, что Алехин эмигрировал из Советской России. Просмотрели, нужно было создать условия, и тогда Алехин демонстрировал бы всему миру не только свой недосягаемый шахматный талант, но и преимущества советского строя, который способствует яркому раскрытию всех народных талантов.
Что же до необъяснимой способности Алехина держать в памяти позицию на десятках шахматных досок — здесь для Сталина не было никаких вопросов. Он прекрасно понимал, как это может быть. Секрет простой: шахматные фигуры не были для Алехина деревяшками. Каждая пешка, ладья и слон ассоциировались в памяти Алехина с каким-то определенным человеком, не просто знакомым, но включенным в круг интересов гроссмейстера — близким или дальним родственником, неверным другом, открытым врагом, тайным недоброжелателем. Сам Алехин никогда об этом не говорил, об этом никто не писал, но Сталин не сомневался, что это именно так. А если так, то никакой таинственной феноменальности не существовало. Любой человек держит в своей памяти десятки житейских партий одновременно — связанных с женой, детьми, родителями и родственниками, начальством и подчиненными на службе, с друзьями, соседями. И постоянно, порой даже не думая об этом специально, анализирует ситуации, пытается предугадать ходы недоброжелателей, выстраивает в памяти систему защиты и планирует нападение. Чем выше положение человека на социальной ступеньке общества, тем большее количество партий он одновременно играет вслепую — не глядя на соперников, не видя перед собой их лиц. Тем больше ставка в этой игре. Тем шире пространство, на котором разворачивается сражение.
Для Сталина полем сражения был весь мир.
В его игре не существовало ничьих.
Он всегда играл только на победу.
Так было всегда.
Так было и тяжелой осенью 1941 года, когда серия сложнейших международных политических комбинаций обернулась мощным, непредугаданным ходом Гитлера, швырнувшего на СССР армады своих бомбардировщиков и бронетанковых армий.
Именно тогда были расставлены фигуры в партии, которая в сознании Сталина обозначилась словами «Еврейский антифашистский комитет», и были сделаны первые разведочные ходы.
Это была в ту пору не главная партия. Далеко не главная. Сотая по значению. Или даже тысячная. Но это не значило, что от нее можно отмахнуться. В этом смысле шахматы и жизнь были равнозначны.
Здесь не было мелочей.
Поздней осенью 1941 года, когда пассажиры поезда Москва — Куйбышев уже закутали в платки и шубейки хнычущих спросонья детей, сами оделись и собрали вокруг себя фанерные чемоданы и тюки домашнего скарба, готовясь к выгрузке, которая обещала быть такой же нервной и суматошной, как и посадка, состав неожиданно замедлил ход и остановился на глухом разъезде в полутора десятках километров от города. За окнами стояла плотная предутренняя темнота, шел дождь вперемешку со снегом, иссекая свет редких уличных фонарей.
Остановка не была предусмотрена расписанием, да никакие расписания не соблюдались с тех пор, как началась эвакуация из Москвы. Железнодорожные ветки были забиты, поезда из пассажирских вагонов и теплушек часами простаивали в степи, пропуская составы с более срочными грузами. Но на этот раз перегон впереди был свободен, а машинист паровоза остановил состав по знаку красных сигнальных фонарей, которыми размахивали стоявшие на путях люди. Один из них был дежурный по разъезду, двое других — штатские, в хромовых сапогах, в кожаных пальто и в таких же кожаных черных фуражках. Машинист был человеком пожилым, много чего повидавшим, он даже и вопроса не задал, почему остановлен состав. Остановлен — значит, так надо. А парнишке-кочегару, высунувшемуся полюбопытствовать, один из штатских приказал вернуться на свое место. Но молодыми своими глазами он все же успел увидеть из высокой паровозной кабины какое-то движение в конце состава, у литерного вагона, прицепленного к поезду на сортировочной при выезде из Москвы: там стояли две машины — легковая «эмка» и грузовой фургон, передвигались какие-то люди.