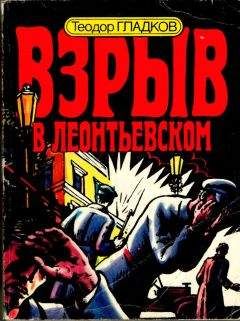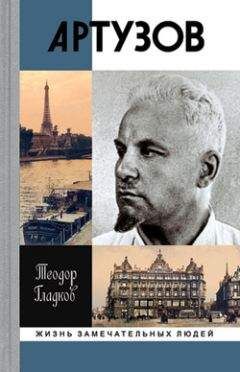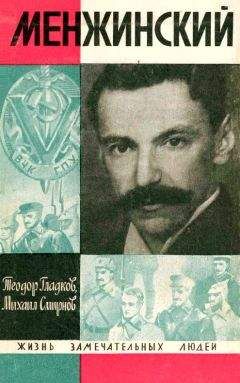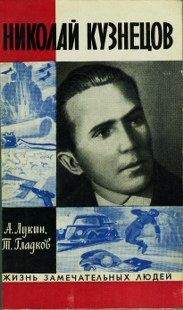— Или старый политкаторжанин товарищ Ефрем, который вас выхаживал в Орловском централе, после того как вы были до полусмерти избиты надзирателями?
Молчит Лямин, низко опустив голову, лишь непроизвольно подрагивающие пальцы выдают сильнейшее волнение. Дзержинский чутко улавливает перелом в состоянии арестованного. Негромко, но очень твердо требует:
— Смотрите в глаза, Лямин, и слушайте. То, что вы мне сейчас скажете, вашу личную судьбу, возможно, и не изменит. Но вы можете хоть столько (показывает на ноготь мизинца) искупить свою вину перед революцией, перед народом…
Еле слышно Лямин выдавливает:
— Спрашивайте…
— Как возникла организация?
— Казимир Ковалевич в мае выезжал в Харьков. Там встречался с Соболевым, Глагзоном, Ценципером и другими анархистами, которые уже были в штабе Махно. Потом всякое было… Ну а в августе было окончательно решено — бить по центру.
— То есть по Москве?
— Да, отсюда все зло.
— Что потом?
— Потом перебрались в Москву. Казимир связался с Донатом Черепановым, они давние друзья.
— И много людей у вас?
— Как у дядьки Черномора. Тридцать три… богатыря.
Манцев взглядом испрашивает у Дзержинского разрешение включиться в допрос. Теперь уже спрашивает он:
— Структура?
— У нас три секции. Идеологическая — листовки, манифест, ну, и прочее — Ковалевич. Арсенальная — Вася Азов. Боевая — Соболев… Он и бомбу метал.
— Кто с ним был?
— Барановский, Глагзон, Николаев, еще кто-то. Я не всех знаю.
— Откуда брали деньги?
— Эксы… Этим занимались Соболев и Николаев, ну, и с ними разные… Сначала взяли банк на Большой Дмитровке, потом на Серпуховке и Долгоруковской, ну, а еще раньше был «Центротекстиль»… Самый большой экс был в Туле, на патронном заводе. Взяли три миллиона.
— Где печатали листовки?
— На дачах в Одинцове и еще где-то по Казанской дороге… Использовали и легальную типографию, кажется Наркомпути.
— Свой человек?
— Да, в каком-то совете или комитете… Точно не знаю, слышал, что меньшевик.
Дзержинский переглядывается с Манцевым, спрашивает недоверчиво, даже с подозрением:
— Вы не путаете, Лямин?
— Чего путать…
— Позор! — негодует Манцев. — Социал-демократ нелегально печатает листовки для террористов!
Дзержинский продолжает допрос:
— Кто входит в штаб от левых эсеров?
Лямин уже взмок от напряжения. Умоляюще просит:
— Дайте покурить.
Манцев вынимает из кармана пачку дешевых папирос, протягивает арестованному. Лямин закуривает, после нескольких жадных затяжек отвечает:
— Я уже говорил — Черепанов, а еще Гарусов.
— Где скрывается Черепанов?
— Не знаю. Гарусов живет легально.
— Где взрывчатка?
— На даче.
— Кто делает бомбы?
— Азов, Соболев и Ценципер.
— С повинной придут?
Лямин хмыкает:
— Придут… С динамитом.
Дзержинский видит, что арестованный очень устал, сейчас он начнет сбиваться и путать. Задает потому последний вопрос:
— Какие вы знаете конспиративные квартиры?
— Кроме арбатской и в Глинищевском только одну — Гарусова. Собачья площадка, шесть. Есть еще где-то на Рязанском шоссе и в Тестове. К Гарусову еще ходят на службу на Казанский вокзал.
Из того, что рассказал Лямин, чекистам многое уже было известно. Но значение все равно имело существенное, так как подтверждало косвенно правдивость той части его показаний, которая содержала новую информацию. А таковая представляла значительный оперативный интерес.
Дзержинский вызвал конвоира. Уже в дверях Лямин вдруг остановился и обратился к председателю МЧК:
— Дзержинский, из-за меня арестовали моего младшего брата. Он ни при чем. Прошу его освободить.
Феликс Эдмундович ответил откровенно:
— Если ваш брат ни в чем не виноват, его освободят и без вашей просьбы. Но я обещаю лично проследить…
Лямина увели. Дзержинский подошел к Манцеву:
— Если их было и в самом деле тридцать три человека, примем — около сорока, значит, на свободе еще гуляют два десятка террористов… Уже испробовавших вкус крови. Значит, вдвойне опасных…
Еще не взятая под наблюдение квартира Гарусова на Собачьей площадке. Кроме хозяина в комнате Донат Черепанов, меланхоличный, с отсутствующим взглядом Вася Азов, мрачный, с тюремными замашками Яков Глагзон. Здесь же брат хозяина, крепкий молчаливый парень, выполняющий функции охранника.
Как только начинается серьезный разговор, Гарусов приказывает брату:
— Ну-ка, Антон, давай к дверям.
Антон уходит в прихожую и занимает там место на табурете, крутя на указательном пальце наган-самовзвод.
Черепанов, не снимая пальто, нервно расхаживает по комнате, говорит быстро, с ноткой истеричности:
— Теперь месть и месть! За Соболева и Ковалевича. Вы знаете, к чему готовился Петр, и мы осуществим его план. Леонтьевский взбудоражил Москву, теперь пусть содрогнется вся Россия!
Азов вздохнул:
— Людей мало.
Гарусов подтвердил:
— Чека еще восьмерых замела.
Уныло вопросил Вася:
— А кто большой акт рассчитает? Мне одному шестьдесят пудов не заложить… И подземку знал только Петр.
Откашлявшись, вступил в разговор Глагзон:
— Проводника я достану… Есть один человек на примете на Цветном бульваре. Митя-Уши, извиняюсь, Дмитрий Хрипунов. Москву знает как никто. В шестнадцатом году через подземку брал кассу купца Брыкина на Самотеке и мастерскую ювелира Фаберже.
Гарусов недовольно поморщился:
— Опять с блатными связаться…
Взорвался Глагзон, заорал неистово, так, что сунул нос в комнату из прихожей встревоженный Антон:
— А ты, Михаил, свое чистоплюйство брось! Ваш Филин что, лучше? Да, за нами идет армия преступников. Ну и что? У нас общая цель, мы разрушаем общество современное, и они разрушают. Вся и разница, что мы выше этого общества, а они ниже. Мы приветствуем всякое разрушение, всякий удар, наносимый нашему врагу.
Зааплодировал одобрительно Черепанов:
— Хорошо сказал Глагзон! Давай, зови этого самого Хрипунова.
…Следующий день выдался холодный и дождливый. Около полудня у круглой афишной тумбы примерно на углу Столешникова переулка и Петровки встретились четыре человека: Черепанов, Азов, Глагзон и невзрачного вида оборванец явно хитрованского происхождения. От него и пахло соответственно. С нескрываемой брезгливостью, даже отвращением рассматривал Черепанов босяка, словно шагнувшего сюда прямо из мизансцены знаменитой пьесы писателя Горького «На дне».
Перехватив его выразительный взгляд, Глагзон поспешил успокоить эсера:
— Прошу любить и жаловать, сам Митя-Уши (точно, из-под мятого картуза у Хрипунова выпирали хрящеватые, оттопыренные, словно у летучей мыши, уши). Лучше его подземную Москву не знает никто.
— Совершеннейшая, натуральная правда, господин хороший, — подобострастно заверещал Митя, То и дело оглядываясь на Глагзона, которого, похоже, смертельно боялся. При каждом выдохе он извергал терпкий аромат денатурата. — Как, значит, Яков Евсеич справедливо рекомендуют. С нашим к вам почтением проведу в наилучшем виде куда пожелаете. Угодно, к «Елисееву», к «Ферейну», угодно, в «Мюр и Мерилиз».
— Нам угодно в Кремль, — жестко оборвал его Черепанов.
С лица Хрипунова, словно влажной тряпкой мел с доски, стерло дурашливую ухмылку. В глазах смешались удивление и страх. И сразу стало видно, что он не такой уж босяк, каким прикидывается. Эту метаморфозу углядел и Донат. Глаза его сузились.
— Ну?! — шепотом, но со скрытой угрозой спросил он.
— Можно, — коротко, уже без тени хвастовства и ерничанья ответил налетчик.
Быстрыми шагами все четверо направились в глухой, безлюдный товарный двор Солодовниковского пассажа. Остановились возле канализационного люка, закрытого железной решеткой. Вытащив из-под полы давно потерявшего и цвет, и форму бушлата стальной, загнутый на конце ломик, Митя ловко поддел им решетку и оттянул в сторону. Донат глянул вниз: в колодце тускло отблескивала темная, с затхлым запахом вода.
— Тут неглубоко, — заверил Митя-Уши, — водичка только на дне, под самой решеткой. Дале посуше будет. Значит, так, я поперед полезу, а вы следом. Тут в стене скобочки есть, держитесь покрепче.
Зажав в сухом кулачке огарок свечи, Хрипунов ловко заскользил в подземелье. За ним Черепанов и Азов. Последним, кряхтя, пытаясь ужаться, чтобы не застрять в узком лазу, спустился громоздкий Глагзон. Задвинул за собой железную решетку.
Пустой, унылый товарный двор…
Меж тем в комендатуре МЧК, где постоянно находилась в боевой готовности дежурная группа ударного отряда, тянулся обычный рабочий день. Густо завис под потолком сизый махорочный дым. Горой высился на дощатом столе огромный жестяной чайник с кипятком. В углу, возле столика с телефонным аппаратом, — переносная пирамида для карабинов, в углу — ручной пулемет «льюис». Приятно разморенные теплом, однако, не снимая портупеи с кобурами, чекисты пили пустой морковный чай. Это только в кинофильмах, снятых десятилетия после окончания гражданской войны, все сотрудники ЧК сплошь щеголяли в новеньких хрустящих кожанках. Увы, на самом деле тужурки из тугого хрома носили считанные единицы, особо отличившиеся в боевых операциях комиссары. По постановлению партячейки остальные кожаные костюмы были сданы для нужд фронта. Точно так же отчисляли в отдельные месяцы семидневную получку сахара, однодневный паек хлеба и трехдневное жалованье. Вот почему большинство чекистов носило ту одежду, в какой пришло в МЧК, — кто из армии, кто от станка, кто со студенческой скамьи. В общем, одевались если не бедно, то и не лучше, чем тот же рабочий и служилый люд на улицах.