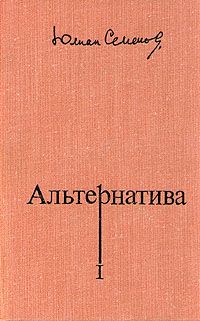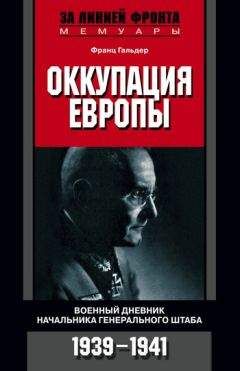— Нет.
— Полчаса тому назад я прочитал указание моего коллеги, который занимается интеллигенцией: за Мандичем завтра будет пущено наблюдение, а оно приведет наших людей ко всему коммунистическому подполью.
— Не понимаю…
— Выступление Цесарца сделало ясной их связь.
— Не верю.
— Почему?
— Мандич — здравомыслящий человек.
— Именно. Здравомыслящий человек сейчас должен либо примкнуть к нацистам, либо к Коминтерну. Победят одна из этих двух сил. Словом, я хочу, чтобы ты сейчас, сегодня поехал к нему и попросил его прервать все связи с «товарищами», пока они не легализованы правительством. Я ничего не смогу поделать, если связи будут установлены. Их немедленно арестуют, и это будет еще один удар по тем силам, которые могут спасти Югославию в предстоящей борьбе. Часть коммунистов, кстати, уже взята.
— Кто именно?
— Цесарец, Кершовани, Прица, Аджия, Рихтман. Хватит? Или продолжить?
— Ты думаешь, что коммунисты…
— Да, да, да, — прервал его Везич, — да, Звонимир. Они — единственная партия здесь, которая называет себя югославской. Тебе странно слышать эти слова от полицейского? Но не все же в полиции дубины. Кому-то надо сидеть в полиции, чтобы думать и о будущем страны. Мне коммунисты так же антипатичны, как и тебе, но нельзя же быть слепцом! Если мы хотим сохранить государство, мы обязаны включать их силы в расклад общей борьбы.
— Почему ты обратился именно ко мне?
— Потому что я должен знать все обо всех. Я знаю о тебе все, Звонимир. Понимаешь? Все.
— Пугаешь?
— Нет. Отвечаю.
— Никогда не думал, что ты способен преступить служебный долг…
— Тут отличные вяленые фрукты. Заказать?
— Я бы выпил кофе.
— Уже заваривают. Здесь занятный хозяин, он из турок. Помогает нам. Мне, вернее. Я привлек его к работе: тут собираются интересные люди, потому что тихо и еда отменная. Все считают, что Мамед плохо понимает по-хорватски. В общем-то это так, но он хорошо понимает меня…
— Ты так ответил на мое замечание о служебном долге?
— Да, — спокойно отозвался Везич. — Ты верно меня понял. Чтобы иметь возможность работать, нужна надежная страховка, Звонимир.
Служба наблюдения, пущенная Петаром Везичем за профессором Мандичем на день раньше его коллеги, сообщила о цепи: после ухода Звонимира Взика профессор посетил паровозного машиниста Фичи, тот отправился к юристу Инчичу, который, в свою очередь, встретился со студентом университета Косом Славичем, на квартире которого в тот вечер собрались пять членов подпольного ЦК, непосредственно связанные с Тито.
Полковник Везич поблагодарил службу наблюдения за операцию, столь четко проведенную, спрятал в сейф адреса явочных квартир и фотографии их хозяев, но рапорта начальству, как того требовал устав, писать не стал. Он ждал, как будут развиваться события. Все должен был решить вопрос, обсуждавшийся на бесконечных вечных заседаниях кабинета: объявлять мобилизацию армии по плану Р-41, согласно которому следовало немедленно входить в контакт с греками, чтобы выстраивать общую линию обороны против Италии, Германии, Венгрии, Болгарии и Румынии, или же сделать главную ставку на попытку политического решения кризиса, на новое соглашение с Гитлером. Берлин вел игру: чиновники МИДа, принимая югославского посла, намекали на возможный компромисс; германский же поверенный в делах в Белграде считал такой компромисс невозможным. Когда есть два выхода, человек пребывает в колебании, какой выбрать. Генеральному штабу вермахта только этого и надо было: каждый час, не то что день, ослаблял противника, ибо югославам надо было развернуть войска на трех тысячах километров ее границ. Это значило, что сотни паровозов и автомашин, тысячи вагонов должны быть подготовлены, заправлены углем или бензином; это значило, что интенданты обязаны приготовить помещения для войск, обеспечить их питанием и медикаментами. Однако вся эта гигантская машина могла быть пущена лишь в тот момент, когда правительство объявит мобилизацию.
В стране шли слухи о предстоящей мобилизации, но слух можно сфабриковать в тихих кабинетах тайной полиции, и поэтому задача германской разведки заключалась в том, чтобы установить истину и сообщить в Берлин совершенно точно, чего следует ожидать в ближайшие часы. Веезенмайер поручил Дицу именно этот вопрос, хотя, в общем-то, такая задача не входила в прерогативы его «специальной группы». Но он правильно учуял в слухах несфабрикованность. Он не знал, конечно, о разногласиях между премьером Симовичем и генштабом, требовавшим развернуть мобилизацию в тот же день, когда был свергнут Цветкович. Не знал он и о том, что Симович принял решение, отмеченное двойственностью: «объявить к третьему апреля скрытую мобилизацию». Симович отвел семь дней на решение конфликта политическим путем, не поняв, что лучшее решение политического конфликта с таким человеком, как Гитлер, — противопоставление силе силы. Симович продолжал уповать на «рыцарскую честь» и «военное джентльменство». Когда ему говорили, что «банде надо противопоставлять не довод, а силу», Симович морщился: «В вас говорит предвзятость. В конце концов они европейцы, а не гунны».
Его позиция — следовать за событиями, не торопя их и даже не стараясь на них повлиять, его убежденность в том, что личность должна лишь формулировать очевидное и не забегать, суетясь, вперед, в неведомое и пустое будущее, — сыграла с ним злую шутку: он без боя отдал «темп», вещал, вместо того чтобы действовать, изображал, вместо того чтобы быть.
А в это время войска фельдмаршала Листа уже вышли на исходные рубежи вдоль восточных границ Югославии.
Гитлер пригласил на ужин Розенберга, Кейтеля, Риббентропа и Бормана. Гостям подавали капустный салат, свиные отбивные, а фюреру вареную рыбу и картофель с оливковым маслом.
— Французское вино откупорили в вашу честь, Риббентроп, — сказал Гитлер. — Если бы повара не знали, что вы сегодня здесь ужинаете, мне бы не удалось выпросить у них эту красную кислую гадость…
— Мой фюрер, — ответил Риббентроп, — я обязал бы каждого немца ежедневно пить по стакану красного французского вина, потому что только так можно уравновесить извечную несправедливость природы: солнце светит на виноградниках Прованса раза в полтора активней, чем в Мекленбурге, а французское вино — это витаминизированный концентрат солнца.
— Вызовите на переговоры солнце, — усмехнулся Гитлер, — пригласите его на Вильгельмштрассе, а Кейтель отдаст приказ войскам быть наготове, чтобы оказать вооруженную поддержку винолюбивым политикам. Как салат?
— Очень хорош, — сказал Розенберг. — И, странно, он приготовлен по-славянски.
— Слава богу, здесь нет Гиммлера, — засмеялся Гитлер, — он бы тотчас приказал проверить генеалогию повара.
— Это сделаю я, — под общий хохот заключил Борман.
— Если в вашем поваре, фюрер, и есть славянское изначалие, то оно от добрых, аристократических кровей, — сказал Розенберг, — в России капусту в салатах почти не используют — картошка, морковь, соленый огурец и немного зеленого горошка.
— Я ел русский салат, — вспомнил Гитлер. — Это было за две недели перед тем, как я уехал из Вены в Мюнхен.
Судя по тому, как Борман подался вперед, отодвинул вилку, все поняли: сейчас начнется одна из тех речей фюрера, которыми славились «обеды для узкого круга» — с Герингом, Геббельсом, Гиммлером и Гессом. Гитлер не верил военным и не любил раскрываться в присутствии фельдмаршалов. Впрочем, чем больше за Кейтелем укреплялось прозвище Язагер,[4] чем заметнее в глазах его горела постоянная алчущая заинтересованность, когда он слушал фюрера, тем менее напряженно чувствовал себя Гитлер в его присутствии, хотя на такие обеды приглашал не часто.
— Я шел по засыпающим улицам Вены, — продолжал Гитлер, — и странное чувство высокой печали сопутствовало мне. Вена была подернута синей дымкой, зажигались огни, и казалось, вокруг звучит музыка Штрауса. Я не отношу себя к поклонникам его таланта, в его музыке есть нечто лукавое, а всякое лукавство — от скрытого еврейства, но в тот вечер какая-то странная размягченность овладела мною и Штраус не раздражал меня, потому что я уже знал, что меня ждет в Мюнхене: борьба, страдания и победа. Три эти понятия однозначны одному имени — Вагнер! А всякая истинная сила не боится соседства легких скрипок и сантиментов. Контраст чувств рождает великую музыку и, соответственно, великое ее восприятие.
Гитлер откинулся на спинку стула и мельком взглянул на дорогой костюм Риббентропа, сшитый у лучшего венского портного.
— Я был голоден, — снова заговорил Гитлер, — гроши, которые я зарабатывал акварелями, не всегда давали возможность пообедать. Но я отложил из тех денег, которые были собраны на дорогу, несколько монет и решил устроить прощальный ужин. Я шел мимо ресторанов и кафе, выбирая то, которое окажется мне по карману. И вдруг увидел русскую вывеску. А Вена тогда подвергалась постоянному неприкрытому ославяниванию, которое проводилось по приказу безвольного Франца-Фердинанда, женатого на грязной чешской графине, заставлявшей этого несчастного говорить по-чешски даже за обедом и завтраком. «Чем же прельщают венцев русские?» — подумал тогда я. Надо знать врага во всех его ипостасях — разве кулинария не одна из форм пропаганды?! Разве повар — в определенный момент — не подобен писаке из социал-демократического листка?! Разве его оружие — сковорода и кастрюля — не служит идее: «Моя пища вкуснее твоей, красивей и здоровей»?!