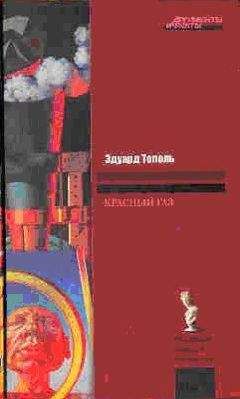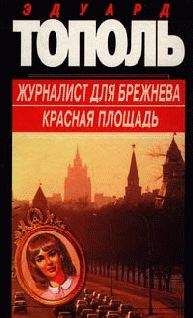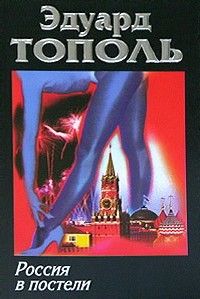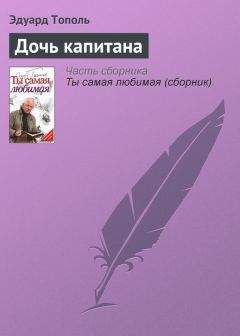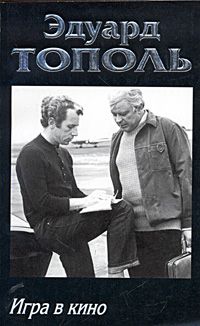– Нет, Худя, рассказывай…
Кажется, мне еще никогда не было так тепло, просто и уютно – ни с одним мужчиной, я имею в виду. Я лежала на Худином плече, чувствовала виском небритость его щеки, блики от огня бродили над нами. Я знала, что Худя своими рассказами хочет отвлечь меня от пережитого, помочь мне уснуть. Но как ни уютно мне было в эти минуты, уснуть я не могла. Внутри меня, кроме огромной усталости, боли и слабости, было еще что-то нервное, бьющееся в пульсе и в висках, что не давало спать. И я просто слушала.
– И вот однажды, после очередного шторма в океане, – говорил Худя, – я нашел на берегу двух чаек. Океанских чаек. Вообще птиц много на севере Ямала, там есть целые базары гагар, гусей, но чайки к нам залетают редко. Эти две чайки лежали неподвижно на берегу, одна из них была уже мертвой. А вторая, точнее – второй был еще жив. Но совершенно без сил, даже не пошевелился, когда я подошел к нему. Только смотрел на меня своим круглым глазом, и я хорошо помню, что была в этом глазу уже какая-то тихая смертельная пелена, однако. Я и до этого находил мертвых чаек, поэтому не обратил на них никакого внимания – ну, умерла одна, а второй отлежится и улетит. Но на другой день я пришел на это же место и нашел этих двух чаек там же. Живой сидел неподвижно возле мертвой. Когда я подошел, он попробовал встать, но у него не было сил подняться на ноги, хотя он даже на клюв пробовал опереться, чтобы встать. Я убежал и вернулся обратно с мелкой рыбой. Я хотел накормить эту чайку, то есть его. У вас в русском языке нет отдельного слова для чайки-мужчины. А у нас есть. Но он не стал есть. Я совал ему рыбу в клюв, но он брал рыбу в клюв и отбрасывал ее в сторону. Он не хотел есть. Если бы у него были силы, он бы, наверно, покусал меня своим клювом, но у него не было сил даже встать на ноги. Но и есть он отказывался. И тогда я понял, что происходит. Он хотел умереть возле своей чайки. Он решил умереть возле нее, и даже я со своей вкусной рыбой не мог изменить его решения. Я понял, что случилось с этими чайками. Над океаном они попали в шторм. Она не выдержала, не долетела до берега, упала на волны и уже не взлетела. А он, наверно, все летал и летал над ней, над штормовым океаном, кричал ей, звал. Ты слышала когда-нибудь крики чаек во время шторма? Это они зовут тех, кто сдался, кто упал на волны и уже не может взлететь, однако. Но они не бросают своих любимых. Этот, которого я нашел на берегу, – он, может быть, всю ночь летал над волнами, над телом своей любимой, видел, как волны швыряют ее, заливают пеной и несут, несут к берегу. И он долетел до этого берега, долетел из последних сил и увидел, как волны выбросили ее на берег. И сначала он, бездыханный, лежал возле нее и ждал, когда она встанет. Но потом начался день, океан ушел от берега, и шторм улегся, и он понял, что его любимая уже не встанет никогда. И тогда он решил умереть возле нее. Если бы он был старый, он бы умер, наверно, в первый день. Но я приходил к нему целую неделю, каждый день я приносил ему рыбу и воду, в жаркие дни я поливал его океанской водой и все пытался его кормить. Но он отбрасывал пищу и не пил воду. На шестой день, ночью, снова начался шторм. Когда после шторма я прибежал на берег, я не нашел ни его, ни его мертвой подруги. Шторм унес их туда, откуда они прилетели. И он – он дождался своей смерти, он умер возле нее – так, как он хотел, однако. И я понял, что страна, о которой рассказывал мой дед Ептома, есть на самом деле. Эти две чайки были из той страны. Поэтому они умерли вместе. Ты спишь?
– Да, Худя… Я совсем-совсем сплю, – прошептала я и спросила: – Худя, а ты меня любишь?
Худя молчал. Никогда до этого я не задавала этот вопрос ни одному мужчине. Тем более – в постели. Хотя бы потому, что, когда вы УЖЕ в постели, мужчина вам скажет что угодно, лишь бы получить от вас все, что взбредет ему в голову в эту ночь. И чем разнообразней его желания, тем больше он врет.
Сегодня я не могла бы удовлетворить даже простейшего мужского желания: все мои внутренности были разворочены и ныли, как одна затихающая, но еще открытая рана. Но, по-моему, Худя думал сейчас не об этом.
– Да, я люблю тебя, – произнес он после паузы, произнес спокойно, как оглашают в суде непреложный факт. – Я люблю тебя четыре года, даже больше, однако. Поэтому я не пошел с тобой тогда на концерт. Я не хотел подчиняться этой любви. Но я назвал свою дочку Анной – из-за тебя. А теперь спи, однако, пожалуйста…
«Однако»! Я приподнялась на локте и поцеловала Худю в его небритую щеку. А потом – в губы. У него были сухие, крепко сжатые губы. Они не ответили на мой поцелуй. Худя лежал как каменный, ни один мускул не дрогнул на его лице.
Я откинулась на спину. Нет, я не стремилась к сексу – куда мне! После всего, что произошло только пару часов назад! Но разве он не мог хотя бы просто шевельнуть ответно губами? Разве я виновата, что меня изнасиловали? Разве я стала прокаженной? Даже для ненца? Второй раз этот Худя говорит мне «нет», второй раз! Смесь униженного женского самолюбия и обиды заставила меня сжать челюсти, чтобы не разрыдаться.
И тут я почувствовала его руку у себя на щеке. Сухая, жесткая, шершавая рука – я резко отвела голову в сторону. Нет, не надо мне его участия, его снисходительной ласки!
– Аня, – сказал он спокойно, в темноте, потому что дрова уже догорели в печке-голландке. – Ты не понимаешь меня. Я не могу сказать тебе больше, чем уже сказал. Но то, что я сказал, – правда, однако. Я не имел права любить тебя в Москве и не имею права любить сейчас. А теперь спи, пожалуйста…
И тут бешеная волна злости подняла меня – нет, подбросила на этих шкурах. Простая мысль пришла мне в голову, и резкие, злые слова сами слетели с языка – раньше, чем я успела даже обдумать их.
– Врешь! Ты все врешь! – кричала я. – И про любовь, и про своих чаек – врешь! Ты просто боишься, что я арестую этих сопляков, которые насиловали меня в интернате! И ты покупаешь меня своими сказками и враньем! А на самом деле ты трус! Трус, да! Ты влюбился в меня в Москве – да! Но нет чтобы завоевать меня, нет! Ты сбежал в лес! Пусть со мной спят другие! Пусть соблазняют московские жлобы! Пусть со мной спят офицеры в зоне! Пусть меня насилуют! Но только не ты! Ты «чистый» романтик! На одной ноге!..
Я сама не знала, что несу. Но то, что было похоронено внутри меня под офицерским мундиром – простая мечта любой женщины об ОДНОМ мужчине, родном, любимом и любящем, мечта, которую я прятала от самой себя и растрачивала, как проститутка, в постелях со всякими оруджевыми, гордо считая, что это не они соблазняют меня и пользуют, а я – их, – эта мечта выплеснулась вдруг наружу, злыми оскорблениями тому мужчине, который, если бы только захотел попробовать, – мог стать, наверно, тем самым единственным. Потому что только с ним, единственным из всех мужчин, которые у меня были, я почувствовала себя в ту ночь так легко и уютно, как с родным отцом. Это чувство, этот миг прозрения значат для женщины больше, чем любовные утехи с двадцатью жеребцами типа Оруджева. Именно поэтому я кричала сейчас на Худю, судорожно одеваясь в темноте:
– Ты в Москве запретил себе влюбляться в меня не потому, что это мешало тебе учиться! Нет! Думаешь, я не помню, как ты смотрел на нас, когда этот ненецкий мальчишка умирал в гостинице «Север»?! Ты ненавидишь нас, русских! Ты расист, да! Знаешь, кто ты? Ты расист и убийца! Ты убил свою любовь, потому что я русская! А потом ты еще назвал свою дочь в честь этой любви! Мазохист – вот ты кто!.. – В темноте я поскользнулась на мягкой шкуре, выматерилась, нащупала рукой выключатель, включила свет.
Худя лежал на полу, на шкурах, не двигаясь.
Я уже надела китель, когда он сказал:
– Ты не выйдешь отсюда. Дверь заперта, однако. Ключ у меня в кармане. Ты никуда не уйдешь.
Это было сказано просто и убедительно, как говорят о непреложном факте.
Я замерла. Неужели он собирается удерживать меня тут силой? Он, Худя, – меня! Он поднял руку, взглянул на ручные часы.
– Да, ты не выйдешь отсюда еще как минимум два часа. Потому что ребята из интерната уходят сейчас из города. Я не хочу, чтобы их поймали. – Он поднялся со шкур, у него был вид человека, который точно решил, что он должен делать в следующую минуту. Скорее всего он собирался просто связать меня. Боже мой, значит, я не ошиблась, значит, я сгоряча угадала правду!
Худе не удалось даже выпрямиться – жесткий сильный удар пришелся по его скуле. Я била его, я! Била так, как бьют в милиции, как УЧАТ бить в милиции. У меня тренированная рука, поверьте.
Худя не уклонялся от ударов, хотя я вкладывала в эти удары всю силу своей злости. Негодяй! Негодяй и подлец! Унес меня из интерната к себе, рассказывал мне сказки о любви и поил чаем, признавался мне в четырехлетней любви – только для того, чтобы дать этим мальчишкам, моим насильникам, тихо и незаметно выскользнуть из города. Конечно! Кто будет останавливать подростков, когда охотятся за беглыми зеками!..