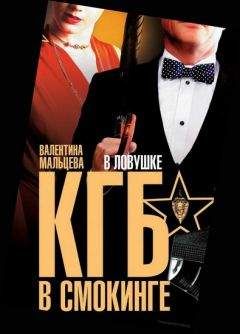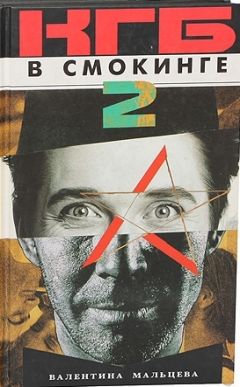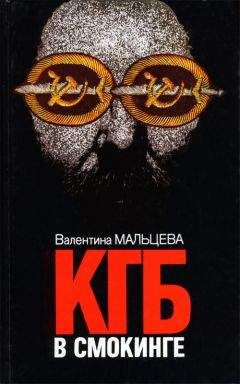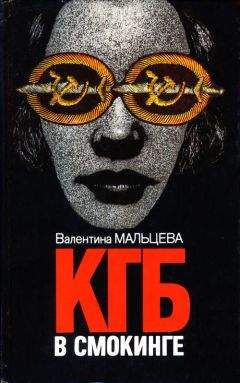— Юрий Владимирович, в нашей компании ты, почитай, самый молодой. Я в твои годы по двадцать пять часов в сутки работал. А ты из конторы, как курьер какой-то, бежишь. Уж не завел ли ты себе зазнобу на стороне, а? Нехорошо. Старики обижаются. Они, понимаешь, с циррозами да инфарктами, как ночные сторожа на вахте, а ты... В общем, реши этот вопрос, Юрий Владимирович. По-умному, по-партийному...
Андропов обладал врожденной реакцией даже на самые затаенные желания начальства и никогда не повторял своих ошибок.
Однако в эту ноябрьскую ночь, когда чугунная голова Дзержинского за окном покрылась пышной шапкой снега, что придало железному Феликсу какой-то шаловливый, совсем не чекистский облик снежной бабы, Андропов не уехал бы домой, даже если бы его попросил об этом сам Брежнев. Потому что встреча, назначенная иа половину третьего ночи, была чрезвычайно важна, и в первую очередь для него самого. Он терпеливо шел к ней долгих два года. И теперь, когда до нее оставалось всего два часа, он ловил себя на том, что считает минуты...
По своему характеру председатель КГБ был человеком гражданским и, в определенном смысле, даже либеральным (настолько, естественно, насколько уместна либеральность в условиях диктатуры). Его всегда раздражали помпезные парады, марширующие шеренги с оттянутыми носками отполированных яловых сапог, солдафонские манеры генералов, органически не способных понять некоторую существенную разницу между партийной дипломатией и армейской операцией с участием бронетанковой техники. Однако с недавних пор Андропов вдруг стал испытывать нелепое, но почему-то греющее его, как выдержанный коньяк, желание устроить смотр-парад своего войска огромной, молчаливой и страшной армии внутренней и внешней безопасности гигантской страны. Правда, воображения Андропова хватало только на то, чтобы вообразить нескончаемые ряды совершенно одинаковых фигур в одинаковых темных костюмах, белых рубашках и невыразительных галстуках. Дальше картина расплывалась.
Чем глубже постигал этот незаурядный и по-своему талантливый партийный интриган истинные масштабы никем не ограничиваемых сил, ресурсов и реальной власти возглавляемой им службы, тем больше он казался себе самому маленьким и беззащитным инструктором райкома комсомола, вытолкнутым для выступления на заседание Политбюро ЦК.
Человек трезвый и от природы способный к достаточно профессиональному анализу, Андропов не мог не понимать, что необозримая и не поддающаяся всеохватному контролю махина государства способна раздавить любого человека, кем бы он ни был, какой бы властью ни обладал и в какой бы части земного шара ни жил. Что уж говорить о своих? Достаточно было упустить мелкую деталь самой незначительной акции, позволить выйти из рамок третьестепенному винтику-исполнителю, какому-нибудь идиоту-топтуну у посольства Габона, не присмотреть за сущим пустяком в зачуханной Монголии или на далекой Кубе, — и автоматически срабатывала защитная система могущественного аппарата подавления, которой было неведомо понятие «личность». Благодаря усилиям Дзержинского и Артузова, Менжинского и Ежова, Ягоды и Берии, Абакумова и Семичастного КГБ мгновенно реагировал на любые угрожающие ему процессы. Люди в данном случае в расчет не брались и сдерживающим фактором не считались. Для КГБ были традиционно страшны только деструктивные явления, угрожавшие его безраздельной власти — власти, на которой держалась и правила партия-монополист, партия-диктатор. Ликвидация таких явлений — оперативная, четкая и не оставляющая следов — была изначально заложена в систему. Сколько при этом гибло людей, какие посты они занимали, как могло отразиться их исчезновение иа судьбе страны — значения не имело и потому никем даже не рассматривалось.
Андропов взглянул на старинные напольные часы и встал из-за своего необъятного стола.
— Все, — сказал он и подтянул чуть приспущенный узел темно-бордового галстука. — Пора ехать...
У одного из шести выходов из его кабинета Андропова уже дожидался Матвей Тополев. Он вопросительно глянул на шефа и, не говоря ни слова, зашагал к лестнице. Андропов, словно заранее готовя себя в натопленном главном здании КГБ к обжигающей метели на улице, застегнул под горлом воротник утепленного финского «Тик-ласа» и направился вслед за ним.
Он вспомнил вдруг свое первое появление в этом зловещем здании в качестве нового председателя КГБ, вспомнил расплывчатое, налитое кровью лицо полковника-кадровика, официально числившегося где-то в шифровальном управлении, но почему-то заявившегося в его кабинет первым. Андропов ожидал тогда чего угодно, только не появления огромной — во всю ширину его председательского стола — карты подземных коммуникаций Лубянки, воспользовавшись которой, можно было незаметно выйти из служебного кабинета и вынырнуть как минимум в двадцати точках центра Москвы, — прямо на улице, на станции метро, в подсобке обычного продуктового магазина, — отстоящих от главного здания КГБ в пределах от пятисот метров до семи километров...
Тополев между тем уверенно шагал по бесконечному подземному коридору, выстланному мягкой блеклой ковровой дорожкой. Это были коридоры его жизни, его среда, его тайный, закрытый от посторонних глаз и потому совершенно отдельный и неповторимый мир. Здесь, на глубине нескольких десятков метров, стояла та особенная, неживая тишина, в какую можно окунуться только на герметически закупоренной студии звукозаписи за несколько секунд до начала трансляции...
Андропов, поневоле вынужденный созерцать узкоплечую, чуть сгорбленную спину своего проводника, как-то меланхолично подумал, что этот еще довольно молодой сотрудник — наверное, один из самых неглупых людей, которые попадались ему на долгом пути к власти. Официально Матвей Тополев числился аналитиком управления внешней разведки КГБ и имел звание подполковника. На деле же он третий год выполнял функции личного консультанта председателя КГБ. Деловые, профессиональные и прочие параметры этих функций никто, кроме, естественно, самого Андропова, не знал. О них можно было только догадываться.
Тополев был человеком уникальным во многих отношениях. Сын репрессированного в конце сороковых армейского генерала, он благодаря реабилитации отца в 1955 году получил возможность поступить в МГИМО и закончить там факультет восточных языков. Матвей был еще первокурсником, когда о его поразительных способностях заговорил весь институт. Собственно, он пришел в МГИМО с пятью прекрасными европейскими языками — английским, французским, немецким, испанским и фламандским, а на третьем курсе свободно болтал на арабском, иврите, урду, китайском и вьетнамском.
Его зачислили в резерв «конторы» уже иа втором курсе. К четвертому курсу будущее Тополева не вызываю сомнений даже у ректора МГИМО: но своим данным парень прямиком попадал в советское представительство при штаб-квартире ООН в Ныо-Йор-
ке, то есть в распоряжение руководства самой мощной резидентуры КГБ за границей — североамериканской. Там, вероятнее всего, Тополев так и остался бы до выхода на пенсию синхронным переводчиком и обозревателем мировой прессы, не раскрой его по-настоящему один из предшественников Андропова — грозный, вальяжный, любвеобильный и неортодоксальный Александр Шелепин, Шурик.
Один из сильнейших фаворитов Хрущева, кумир горластых советских комсомольцев, которые, по его собственным словам, «работали как маленькие, а пили водку как взрослые», Шелепин по-юношески обожал саму идею «гарунальрашидства», культивировал всевозможные переодевания, «хождения в народ», доверительные беседы с вахтерами и уборщицами — короче, был оригиналом, изобретательнейшим мастером интриги и очень умным человеком.
Однажды Шелепин, нацепив на себя китель сержанта пограничных войск (это подразделение несло караульную службу внутри некоторых зданий КГБ), нагрянул в подвальное помещение служебного офицерского тира и увидел там молодого, коротко стриженного пария, который упоенно палил по движущимся мишеням из табельного «Макарова». Председатель КГБ приметил его только из-за манеры стрелять, поскольку этот щенок в броской вельветовой куртке и рубахе с расстегнутым воротом выполнял одну из основных функций советского чекиста в резком несоответствии с утвержденными, а потому незыблемыми нормативами. То есть держал пистолет двумя руками, а не одной, на уровне груди, а не глаз, и всей своей ухарской повадкой напоминал киношного ковбоя из не сходившего в те годы с экранов американского вестерна «Великолепная семерка» с бритоголовым Юлом Бриннером в главной роли.
Шелепин уже собирался было влепить молокососу подзатыльник, но тут обратил внимание на потрясающую точность стрельбы: несмотря на то что сопляк практически беспрерывно нажимал на спусковой крючок, неуловимым движением вставляя все новые и новые обоймы, уродливые фигуры «агентов империализма», скользившие на стометровом расстоянии от линии огня, валились с простреленными головами одна за другой. Это было настолько необычно и так здорово, что Шелепин на какое-то мгновение почувствовал себя в цирке, который он беззаветно любил.