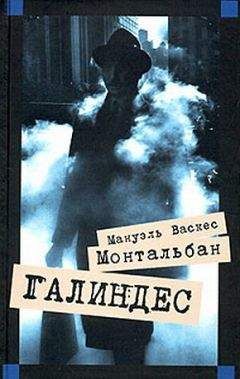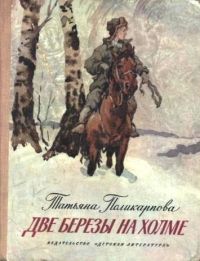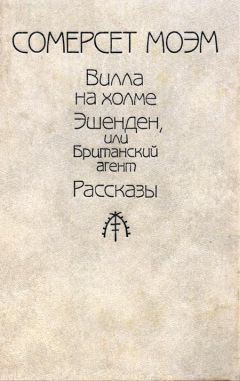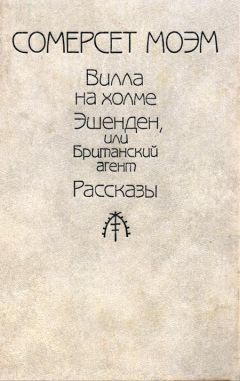Он встает, и ты, с трудом веря своим глазам, видишь, как он достает из-за пояса пистолет и подходит к тебе; все присутствующие предусмотрительно отступают, заговорщически подмигивая друг другу, а кто-то, вдохновленный ораторским искусством генералиссимуса, даже негромко аплодирует.
– Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот пистолет и подумали о том, что такой злодей, как я, может сотворить, имея в руках оружие. Я и скажу тебе вот что – теперь я буду обращаться к тебе на «ты»: хватит с тебя «вы», ты недостоин и намека на уважение, – я скажу тебе следующее, потому что живым ты из этой комнаты не выйдешь: о Марии Мартинес Альба ты пишешь, что она была замужем за кубинцем, от которого и родила Рамфиса, и что я смирился с этим и принял чужого ребенка, когда отнял ее у кубинца. Так омерзительно, что ты пачкаешь грязью мать моих детей, меня, моего сына Рамфиса, что я должен был бы не разговаривать с тобой, а просто всадить тебе пулю промеж глаз. Но поскольку ты профессор, а профессора всю жизнь доискиваются до правды, я расскажу тебе эту историю, свидетельство моего благородства. Женщина, позднее ставшая моей женой, сначала была моей любовницей, но я скрывал эту связь, потому что я был женат; однако Бьенвенида меня не удовлетворяла полностью как женщина, к тому же она была бесплодна, как высохшая смоковница. И я сделал сына Марии, потому что я был настоящим мужчиной, только такие и делают таких сыновей, а мужа-кубинца выставил вон, чтобы никто больше не упоминал их имена рядом и чтобы мой Рамфис не знал такого позора, когда вырастет. Рамфис стал моей гордостью и гордостью всего народа. Тебе известно, баск, что в 33-м, когда Рамфису исполнилось четыре года, я сделал его полковником, – разве я вел бы себя так, если бы он не был моим сыном? Я обвенчался с его матерью только год спустя. Это был сигнал, сигнал всем грязным умам, вроде твоего, – Рамфис мой сын! И он был моей гордостью, потому что в 43-м он, забыв о всех почетных званиях, которыми я его пожаловал, поступил в Военную академию, просто кадетом. И стал там одним из лучших учеников, доказав, что достоин своего отца! Он изучал право, а потом достиг самых высоких военных званий благодаря собственным заслугам, мой золотой мальчик! Мои заботы о том, как править страной, его не коснулись: он жил полной жизнью, будучи всегда первым – среди женщин и с оружием в руках, в танке и в самолете. Разве это не доказательство того, что Рамфис – мой сын, достойный сын Рафаэля Леонидаса Трухильо! На груди его красуются наши самые почетные ордена: орден Трухильо, орден Дуарте, орден Колумба, медали за военные заслуги, за военно-морские заслуги, за военно-воздушные заслуги, за заслуги в области политики… Это я его наградил? Наглая ложь. Ко мне приходили его начальники с приказами о его повышении или награждении, и я рвал эти приказы. Приказ о его назначении начальником Генерального штаба в 1954 году приносили мне на подпись десять раз. Я хочу, чтобы ты, Эспайлат, как человек, окончивший Уэст-Пойнт, сказал о достоинствах Рамфиса как военного.
Эспайлат говорит, и лицо его остается бесстрастным, не движется ни один мускул:
– Он – лучше всех, ваше превосходительство. Вы сами это сказали. Он необычайно одарен от природы и постоянно стремится к совершенствованию. Сейчас он занимается созданием военно-воздушных сил Доминиканской Республики.
– Повтори, Артуро.
– Он необычайно одарен от природы и постоянно стремится к совершенствованию.
– Он много знает просто от природы и еще потому, что я учил его. Я выучил его не доверять никому – ни противникам, ни союзникам, ни американцам, потому что эти-то своего не упустят, и когда имеешь с ними дело, они урвут себе основную добычу, а тебе оставят крохи. Я сильно огорчен тем, как они себя ведут: на их земле процветают такие сорняки, как этот тип, и мой Рамфис должен это понимать. В этих Соединенных Штатах моего Рамфиса воспринимают совершенно искаженно, выставляют его неразлучным другом плейбоя Порфирио Рубиросы и говорят, что он только и делает, что развлекается и жизнь прожигает. Вполне естественно, что молодого мужчину тянет к женщинам, я это и по себе знаю: бывало у меня женщин больше, чем нужно, а бывало, что я и отказ получал, как однажды в Сан-Кристобале, но я никогда не расстраивался. Эти американцы унизили моего мальчика: они отнеслись к нему как к метису, когда он отправился в военную школу Ливенурт. Конечно, он не только учиться успевал, но и за девушками приударял, а среди них были знаменитые красотки – Ким Новак, Заза Габор. Но мне надоело, что в газетах его называли то черным, то цветным, то еще не пойми как, и я велел ему вернуться. Я сказал: «Возвращайся, тут ты станешь великим, и всем гринго, которые сейчас клевещут на тебя, тогда будет не угнаться за тобой». Скажи этому отщепенцу, Эспайлат, почему гринго привязались к моему сыну.
– Из зависти, ваше превосходительство.
– Почему ты успешно закончил Уэст-Пойнт, а мой сын и военное училище в Америке не закончил?
– Потому что я был для них обычным человеком, ваше превосходительство, а от вашего сына они ожидали, что он поведет себя как наследник.
– Как принц.
– Как принц, ваше превосходительство. Рамфис не потерпел неудачу в Соединенных Штатах – они вынудили его потерпеть неудачу, потому что они предпочитают всегда держать одну ногу на голове союзника.
– Именно этих слов я и ждал, Артуро. Но ты, гаденыш, никогда не поставишь свою ногу мне на голову, как бы тебе ни хотелось. Я привязал моего сына на короткий поводок, хотя со стороны это незаметно, выпроводил всех друзей, которые плохо влияли на него, в том числе и моего зятя Порфирио Рубиросу, который был женат на моей дочери, той, кого ты находишь сексапильной. Один раз я даже двинул этому типу как следует по башке, потому что он постоянно затаскивал моего сына на разные попойки и гулянки вместо учебы. И хотя я просто таю, когда вижу, как он гарцует на лошади, стройнее и красивее, чем любой член нашей семьи, я вполне в состоянии потребовать, чтобы он был достоин той ноши, которую ему когда-нибудь придется принять на свои плечи и к которой его готовят с колыбели, а точнее, – с того момента, когда мать произвела его на свет благодаря этому черенку.
И свободной рукой он дотрагивается до ширинки, после чего снова поворачивается к тебе, словно только что вспомнив о твоем присутствии.
– Я никогда не утверждал, что Рамфис – не сын вашего превосходительства.
– Открой рот.
– Я это говорю вполне искренне, ваше превосходительство.
– Заткнись и открой рот, или я вышибу тебе зубы пистолетом.
Ты открываешь рот, и твой парализованный от ужаса взгляд останавливается на глазах старика, которые становятся все ближе, по мере того как он наклоняется и сует дуло пистолета тебе в рот; от страха ты начинаешь постукивать зубами о дуло пистолета, а твой рот быстро заполняется привкусом металла и смазки. И ты застываешь так, глаза в глаза с твоим палачом; перед глазами у тебя только его искаженное яростью лицо и кулак с зажатым пистолетом, от малейшего движения которого распухший язык начинает кровоточить. Достаточно одного движения, и пистолетный выстрел положит конец твоему желанию жить – жить, несмотря на эту кошмарную сцену; положит конец постоянному ожиданию конца и безмолвным мольбам о милосердии и справедливости, направленным неизвестно к кому, к затаившим дыхание в другом углу комнаты сподручным.
– Заткнись и сожми зубами дуло. Думай о том, что достаточно мне нажать на курок и твоя голова разлетится на части, как арбуз. Ты не заслуживаешь того, чтобы жить. Я готов простить тебе все, кроме того, что ты поставил под сомнение мои мужские достоинства, порядочность моей жены и происхождение Рамфиса. Я могу ждать так целый час, а если надо, то и два, и три – рука у меня еще крепкая, как у молодого. Я буду ждать столько, сколько понадобится, чтобы ты сдох от страха, чтобы ты стал ждать моего выстрела, который разом покончит с тобой.
Но тут он резко, рывком, вытаскивает пистолет; у тебя вырывается крик и падает окровавленный зуб, и ты начинаешь хватать ртом воздух. Истерика, которую ты не в силах сдержать, сотрясает все твое тело, и со стоном ты падаешь на пол.
– Полюбуйтесь, как он корчится. Эти типы храбрые только, когда у них перо в руке. Продолжайте, капитан. Зачитайте ему обвинение и приговор.
Трухильо поворачивается к тебе спиной и отходит; когда он усаживается в кресло и ты снова видишь его лицо, там ясно написана угроза.
– Я уже немолод для такой жестокости. Продолжайте капитан, и давайте побыстрее закончим.
Присутствующие с некоторым трудом возвращаются к своим прежним ролям, и капитан начинает читать, только после того как Эспайлат оборачивается и грозно смотрит на него.
– Встаньте и ведите себя пристойно в эту судьбоносную для вас минуту.
Но ты не стоишь на ногах, поэтому твои палачи подхватывают тебя и поддерживают под мышками: едва их руки ослабевают, ты как подкошенный падаешь на пол, словно все у тебя переломано – внутри и снаружи.