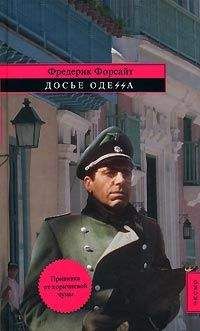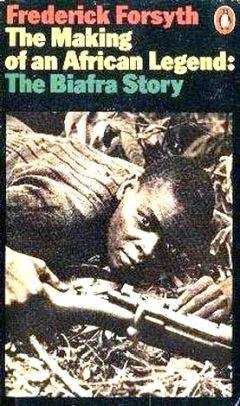– Он лежал рядом с телом. Я взял его с собой. Вчера вечером прочел.
Миллер вопросительно посмотрел на школьного друга:
– Старику было плохо там, в концлагере?
– Ужасно. Я и представить себе не мог, что над людьми могли так издеваться.
– Зачем ты принес дневник мне?
Брандт смутился окончательно. Пожал плечами и сказал:
– Думал, ты захочешь об этом написать.
– Кому теперь принадлежит дневник?
– По закону – наследникам Таубера. Но нам их никогда не найти. Так что теперь им владеет полицейское управление. Но там его подошьют к делу, и все. Если хочешь – забирай его. Только не говори, что дневник тебе отдал я. Мне бы не хотелось неприятностей на службе.
Миллер расплатился, они вышли на улицу.
– Хорошо, я его прочитаю. Но ничего не обещаю. Возможно, из него получится статья для журнала.
Брандт повернулся к Петеру, улыбаясь лишь уголками рта, и сказал:
– Ты бессовестный циник.
– Нет, – ответил Миллер. – Просто меня, как и большинство людей, заботит насущное… А я-то думал, десятилетняя служба в полиции тебя закалила. Значит, дневник тебя взволновал, так?
Брандт посерьезнел, взглянул на пакет под мышкой у Миллера и печально кивнул.
– Да, взволновал. Никогда не думал, что такой кошмар мог быть на самом деле. Кстати, там не только прошлое. Эта история закончилась в Гамбурге лишь вчера. Прощай, Петер.
Инспектор повернулся и ушел, не подозревая, что встретится с Миллером очень скоро.
Домой Петер вернулся в начале четвертого. Он бросил пакет на стол в гостиной и перед тем, как взяться за него, пошел в кухню сварить кофе. Наконец уселся в любимое кресло с сигаретой и чашкой кофе под рукой.
Дневник оказался черной папкой из искусственной кожи с держателями у корешка, чтобы можно было легко вынимать и вставлять страницы.
В папке было сто пятьдесят страниц, отпечатанных, видимо, на старой машинке: буквы в строчках плясали, некоторые пробивались криво или очень слабо. Большую часть дневника старик написал давно – множество страниц, в общем, чистых и нерастрепанных, пожелтело от времени. Но в начале и конце лежали свежие листы, отпечатанные, вероятно, совсем недавно. Из них состояло предисловие и нечто вроде эпилога. Проверив даты, Миллер обнаружил, что они написаны двадцать первого ноября, то есть два дня назад.
Миллер пробежал взглядом по первым абзацам дневника. Его удивил грамотный язык, слог культурного, образованного человека.
На обложку старик наклеил квадрат из белой бумаги, крупными печатными буквами вывел на нем «Дневник Саломона Таубера», чтобы надпись не затерлась, накрыл ее большим куском целлофана.
Петер забрался в кресло поглубже и начал читать…
ДНЕВНИК САЛОМОНА ТАУБЕРА
Предисловие
Мое имя Саломон Таубер. Я еврей. И скоро умру. Я решил покончить с собой, потому что нет больше смысла жить. Дело, которому я посвятил себя, так и не сделано, все усилия оказались тщетны. Зло, с которым я в свое время столкнулся, выжило и благоденствует, а добро лежит в пыли и насмешках. Все мои друзья – мученики и жертвы – погибли, вокруг одни лишь мучители. Днем я вижу их на улицах, а по ночам ко мне приходит давно умершая Эстер.
Я прожил столько потому, что хотел сделать, увидеть лишь одно – то, что, как я понял, мне уже не удастся.
Во мне нет ни ненависти, ни презрения к немцам, ведь они – хорошие люди. Зло заложено не в народе, оно – в отдельных людях. Английский философ Бёрк был прав, когда сказал: «Я не знаю случая, когда можно обвинить целую нацию». Общей вины нет. Даже в Библии, когда Бог решил разрушить Содом и Гоморру за зло, таившееся во всех жителях этих городов, он разыскал среди них одного праведника и спас его. А потому вина, как и спасение, – дело личное.
Я прошел концлагеря в Риге и Штутгофе, пережил марш Смерти до Магдебурга, и, когда в апреле 1945 года британские солдаты освободили мое тело, оставив душу в оковах, я ненавидел все – и людей, и деревья, и камни. А больше всего – немцев. «Почему, – думал я, – Бог не покарал их всех до единого, не стер с лица земли их города?» А потом стал ненавидеть за это и самого Бога, посчитав, что Он оставил меня и мой народ, который когда-то называл своим избранником. Я заявлял даже, что Бога нет вовсе.
Но прошли годы, и я вновь научился любить – камни и деревья; небо над головой и реку, что течет прочь из города; травинки меж булыжников мостовой; детей, которые шарахались от меня на улице, потому что я такой безобразный. Они не виноваты. Есть французская пословица: «Кто все поймет, тот все простит». Когда познаешь людей, их доверчивость и страхи, их алчность и стремление к власти, их невежество и покорность тому, кто кричит громче всех, начинаешь прощать. Да, все можно простить. Нельзя только забыть.
Но есть люди, чьи преступления перешли границу понимания, а значит, и прощения. Вот здесь-то и кроется настоящая несправедливость. Ведь они все еще среди нас – ходят по земле, работают в конторах, обедают в ресторанах, смеются, жмут руки честным людям и называют их товарищами. Они будут и дальше жить не как изгнанники, а как уважаемые граждане и своим злом навсегда втопчут в грязь целый народ. Вот в чем главная несправедливость.
Прошло время, и наконец я вновь возлюбил Бога и прошу его простить меня за все сделанное мной вопреки его воле, а это немало.
На первых двадцати страницах Таубер описывал свое детство. Отца – рабочего, ветерана первой мировой войны, смерть родителей вскоре после прихода Гитлера к власти.
В 1938 году Таубер женился на девушке по имени Эстер. До сорок первого года благодаря вмешательству начальника Саломона не трогали. Но в конце концов его взяли в Берлине, куда он поехал по делам. После лагеря для перемещенных лиц Таубера вместе с другими евреями запихнули в вагон товарного поезда, шедшего на восток.
Я не могу точно вспомнить, когда поезд остановился. Кажется, мы ехали шесть дней и семь ночей. Поезд вдруг встал, полоски света из щелей подсказали мне, что на воле день. Голова кружилась от усталости и вони. Снаружи кто-то закричал, лязгнули засовы, двери вагона отворились. Хорошо, что я, еще недавно одетый в белую рубашку и отглаженные брюки, не мог видеть самого себя. Достаточно было взглянуть на других.
Яркий солнечный свет хлынул в вагон. Люди закрыли глаза руками и закричали от боли. Под напором сзади на станцию высыпало полвагона – смердящая толпа спотыкавшихся людей. Я стоял сбоку от двери, потому не вывалился наружу, спустился одним из последних, по-человечески.
Двери вагона открыли охранники из СС. Злые, жестокие, они переговаривались и кричали на непонятном языке или стояли поодаль, презрительно смотрели на нас. В вагоне на полу осталось лежать человек тридцать – побитых, затоптанных. Остальные, голодные, полуослепшие, потные, в вонючих лохмотьях, кое-как держались на ногах. От жажды мой язык присох к нёбу, опух и почернел, губы запеклись и потрескались.
На платформе разгружались еще сорок таких же вагонов из Берлина и восемнадцать – из Вены. Около половины «груза» составляли женщины и дети. Охранники бегали по платформе, дубинками строили вывезенных в некие подобия колонн, чтобы отвести в город. Но в какой? И на каком языке они говорили? Потом я узнал, что город называется Рига, а эсэсовские охранники были набраны из местных подонков.
Позади них стояла горстка людей в потертых рубахах и штанах с большими буквами J (от немецкого JUDE – еврей) на груди и спине. Это была особая команда из гетто, ее привезли вынести из вагонов трупы и похоронить мертвецов за городом. Команду охраняли десятка полтора человек тоже с буквами J на груди и спине, но подпоясанных армейскими ремнями, с дубинками в руках. А назывались они еврейскими «капо», их кормили лучше остальных заключенных.
Под вокзальным навесом, в тени стояли и офицеры СС. Один самодовольно возвышался на каком-то ящике и с презрительной ухмылкой рассматривал несколько тысяч ходячих скелетов, заполнявших перрон. Эсэсовец постукивал по сапогу хлыстом из плетеной кожи. Зеленая форма с серебряными сдвоенными молниями на правой петлице сидела на нем как влитая. На левой был обозначен его чин. Капитан.
Он был высок и строен, со светлыми волосами и блеклыми голубыми глазами. Потом я узнал, что он отъявленный садист, уже известный под именем, которым его впоследствии станут называть союзники: Рижский мясник. Так я повстречался с капитаном СС Эдуардом Рошманном.[1]
Рижское гетто располагалось прямо в городе. Раньше там было еврейское поселение. Когда привезли нас, коренных евреев там осталось всего несколько сотен: меньше чем за три недели Рошманн и его заместитель Краузе уничтожили их почти полностью.
Гетто находилось на северной окраине Риги, за ним начинался пустырь. С юга концлагерь окружала стена, а остальные три стороны были забраны колючей проволокой. Единственные ворота стояли на северной стороне, а около них – две сторожевые башни с эсэсовцами из латышей. От ворот прямо к середке гетто шла «Масе калну иела», или Маленькая холмистая улица. Справа от нее (если смотреть с севера на юг, встав лицом к воротам) лежала «Блех пляц», то есть Оловянная площадь, где заключенным объявляли наказания, проводили переклички, выбирали, кого послать на тяжелые работы, а кого повесить. Посреди площади стояла виселица о восьми стальных крюках. Она никогда не пустовала. Каждый вечер вешали по меньшей мере шестерых, но часто крюков не хватало, и людей казнили в несколько заходов, пока Рошманн не оставался доволен своей работой.