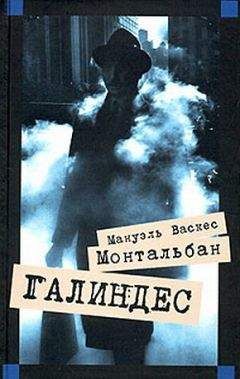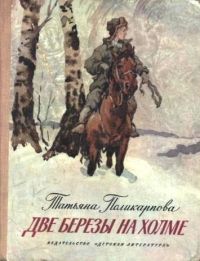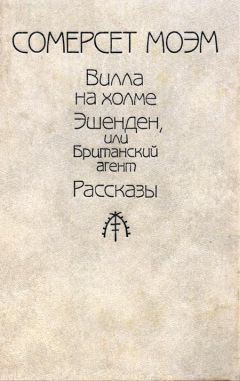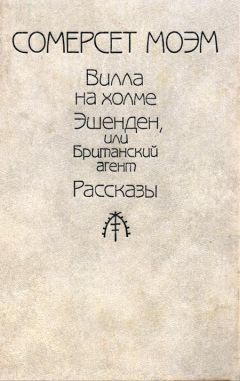И напрасно ты повторяешь, что тебе интересно все, что имеет отношение к Галиндесу, буквально все. Полковник утратил к тебе интерес, хотя продолжает выражать сожаление, что вы оба не располагаете достаточным временем, чтобы поехать в Ла-Вега, где у него огромные плантации и табачная фабрика, хотя все склады – в Пуэрто-Плата. Ты вовсе не говорила ему, что очень занята, и ты не знаешь, насколько занят он; он дает тебе понять – пора сделать вид, что торопишься, и уйти.
– Но, надеюсь, вы не уедете от нас так и не загорев. Походите на пляж, позагорайте; веснушчатым женщинам загар необыкновенно к лицу.
Он стучит кулаком по интеркому, но, не доверяя аппарату, громко орет: «Ривера! Ривера, куда ты, к чертям собачьим, запропастился, Рикардо?» Рикардо тут же возникает на пороге, склоняя голову, как бы говоря: «К вашим услугам», и тучный полковник поднимается из-за стола, рукой со сверкающими бриллиантами берет твою руку, обдавая тебя своим дыханием. В машине Рикардо и его племянник садятся впереди и предлагают тебе банку ледяного пива, вытащенную из встроенного маленького холодильника. «Шеф был язвительным, сеньорита, но не придавайте этому значения, он сегодня в одном настроении, завтра в другом, не угадаешь». В холле гостиницы уже сидит озабоченный Хосе Исраэль, который облегченно вздыхает, увидев тебя. «Я давно вас жду, Мюриэл», – говорит он. Ты рассказываешь ему, как появился Ривера и как вы поехали к Аресесу: никто тебя не предупредил, чтобы ты не рассказывала этого никому, после того как встречи состоялись. Куэльо в полной растерянности.
– Конечно, я не могу знать всех полковников или бывших полковников, но это имя я слышу впервые. И второе тоже. Вот так: считаешь, что знаешь тут всех, а оказывается, нет.
Исраэль разыскал вдову и сына Мартинеса Убаго, который стал после Галиндеса представителем Националистической партии басков, но они смогут принять тебя только вечером. Исраэль предлагает передохнуть и поехать на пляж, искупаться и поесть тушеного черепашьего мяса. Это поможет тебе восстановить силы и быть готовой к встрече с Марией Угарте, вдовой Убаго, и ее сыном. По дороге вы заезжаете в издательство, чтобы захватить Лурдес. Пока вы ее дожидаетесь, Хосе перебирает в памяти то, что ты рассказала о встрече с полковником, – и чем дальше, тем больше она ему не нравится. «Этот полковник строил из себя чуть ли не главное действующее лицо, участника исторического процесса. Вполне вероятно, что он и видел все то, о чем рассказывал, но диктаторы и после смерти продолжают жить в душах своих подданных». Увидев, что вы с Лурдес готовы к поездке на пляж, Хосе Исраэль решает отправить вас вдвоем.
– Вам не будет скучно вдвоем, а мне совсем не хочется купаться. Поэтому вы развлекайтесь, а я уж буду бороться за культуру и наживать капитал.
Лурдес недовольна таким поворотом событий, но воспринимает все с покорностью жителей тропиков. «Тебе надо больше двигаться, Хосе Исраэль», – только и говорит она, но тот уже уселся за компьютер со своим обычным ироническим видом, и Лурдес, вздохнув, смиряется. Ты впервые оказываешься за пределами столицы, и по дороге Лурдес, как заправский гид, рассказывает тебе о Санто-Доминго, его окрестностях, туризме на северо-востоке страны, куда американцы вкладывают много денег, о табачных плантациях и доставляющей столько неприятностей границе с Гаити, а потом – о параноидальной клаустрофобии жителей острова, заставляющей их часто отправляться в путешествия. Но они не могут без своего острова и, уехав, через две недели начинают тосковать, хотя недавняя история страны полна жестокости: режим Трухильо, сменивший его Балагер, крушение революционных надежд Боша и Кааманьо, вторжение в страну американских военно-морских сил, и снова Балагер, все тот же Балагер, пожизненный полудемократ, пожизненный преемник диктаторской власти. У Лурдес профиль – как у статуи доминиканской богини, если бы у них были такие статуи. Она типичная доминиканка; волосы подстрижены очень коротко, а на лбу оставлена челка. Ты говоришь, что тебе нравится ее стрижка, и женщина от неожиданности громко смеется: ведь обычно ты спрашиваешь ее только о политике или истории, и вдруг она обнаруживает, что ты – такая же женщина, как и она, потому что ты смотришь на нее глазами женщины. А потом вы купаетесь в зеленой морской воде, теплой и спокойной, и наслаждаетесь возможностью поплавать на глубине, идущей оттуда, снизу, прохладой. Ты плывешь кролем; это спокойный, размеренный стиль, и под него так хорошо думается: руки медленно двигаются в такт мыслям, а движения ног чуть ускоряют их. Так ты оказалась в водах, которые скрывают стольких покойников: Галиндес – просто один из многих. Это произошло южнее, в нескольких милях отсюда, и останки его превратились в органическую материю, навсегда ставшую частью этого моря, его кораллов. Когда ты плывешь, медленно раздвигая воду перед собой, она расступается с едва слышным звуком, который кажется тебе тихим шепотом, идущим из глубины моря. Ты пытаешься встать на ноги, но едва-едва достаешь дно; Лурдес проплывает мимо – на спине, закрыв глаза, и на ее поднятом к небу лице застыло счастливое выражение, которое ничего общего не имеет с твоими судорожными попытками как можно скорее оказаться на берегу. Ты плывешь к пляжу и, достав ногами дно, сразу бежишь к берегу – так отвратительно тебе снова опускать голову в воды, которые кажутся кровавыми, из глубин которых тебе слышатся приглушенные отзвуки голосов. Любезность Лурдес, тушеная черепаха, пиво, ром, кофе оттеснили эти мысли, и ты даже вспомнила Рикардо: как бы он отнесся к тушеной черепахе? «Что вам известно о тушеной черепахе, дон Рикардо?» – «Вполне достаточно, чтобы предпочесть телятину». Он наверняка ответил бы именно так, и ты смеешься.
– Чем я тебя рассмешила?
– Ничем, просто я вспомнила одного приятеля.
– Если мы быстро оденемся, то у нас еще останется время немного проехаться по берегу и посмотреть окрестности. Здесь есть что посмотреть, у нас же был не только режим Трухильо.
Красота здешних мест и близость вечера заставляют тебя расслабиться; немало способствует этому и то, что к тушеной черепахе ты едва прикоснулась, зато съела два фруктовых салата.
– Мы не сможем заехать в Сан-Педро-де-Макорис: это далековато, и тогда мы опоздаем. Но это жаль: там недалеко Ла-Романа, излюбленное место туристов.
– В Сан-Педро-де-Макорис Галиндес назначал встречу со связными, и там была сильная ячейка испанских коммунистов.
– И доминиканских тоже.
– От них что-нибудь осталось?
– Немного. Коммунизм здесь не приживается: люди предпочитают другие формы радикализма, и все левые партии переживают не лучшие времена – разобщены и грызутся между собой. Хосе Исраэль не хочет ввязываться в их распри, и потом он считает, что кубинской модели больше не существует, а никарагуанская обречена на поражение. И кроме того, не надо забывать, что Доминиканская Республика – остров, что бы кто ни считал и что бы ни думал.
Вы уже въехали в Санто-Доминго, и, когда останавливаетесь перед светофором, вашу машину осаждает толпа ребятишек, жаждущих протереть ветровое стекло. Лурдес позволяет им сделать это, но сидящий в соседней машине креол в соломенной шляпе и с недружелюбным лицом резко отталкивает их.
– Но оно грязное, сеньор.
– Это ты грязный.
И это правда, но ведь дети часто бывают чумазы, и никто не называет их грязными. У тебя кровь прилила к лицу, и очень захотелось опустить стекло, высунуть голову и сказать этому сеньору, что ты думаешь о его предках. Именно так, без сомнения, поступил бы Рикардо – ведь так принято в Испании, вспомнить непечатным словом всех предков, – но ты иностранка, и в Испании, и тут. Поэтому у тебя нет даже права проявить солидарность с нищими. Их и этого сеньора объединяет сложная диалектика национальности, а тебя отделяет то, что ты иностранка. Хосе Исраэль уже ждет вас, и за его спиной садится оранжевое солнце, свет которого придает имперское величие памятникам архитектуры. Семья Мартинеса Убаго живет в хорошем районе, в центре города, в небольшом доме с небольшим садом; на всем лежит этот отпечаток упадка, который свойственен в тропиках всем зданиям, не претендующим на монументальность. Мария Убаго – старая, некогда белокурая женщина, сохранившая следы былой красоты, – смотрит на тебя с большим любопытством, словно ты посланец прошлого, которое она считала мертвым. Сын ее ведет себя очень сдержанно – или недоверчиво. Это мужчина средних лет, который держится несколько напряженно, словно его поджидает какая-то опасность. Он приглашает вас пройти в дом, при взгляде на который он сам и его мать начинают тебе казаться внутренними эмигрантами. Вы проходите в спальню, потому что в гостиной остальные обитатели этого дома смотрят телевизор, и рассаживаетесь – донья Мария на кровати, рядом с ней сын, а вы – где придется. Мартинес Убаго пытается как-то упорядочить свои детские и юношеские воспоминания, а его мать вспоминает все больше своего покойного мужа, врача из Caбанаде-ла-Мар, который обеспечил себе любовь народа, но не его деньги. Сын вспоминает Галиндеса таким, каким тот ему казался в детстве, а также его переписку с отцом, когда тот стал представителем баскских националистов в Санто-Доминго. Его отцу не раз приходилось демонстрировать чудеса ловкости, лавируя между своей дружбой с ненавистным Галиндесом и необходимостью отстаивать интересы живших тут басков. Вдова вспоминает только мужа и все, что было с ним связано; Галиндес для нее – только персонаж на фотографии, запечатлевшей один из счастливых дней их эмиграции – баскский хор. «Вы знаете, мой муж столько сил вкладывал в этот хор! Когда мы жили здесь, в Сабана-де-ла-Мар, он почти все свободное время только им и занимался». Мартинес Убаго-младший – вполне зрелый мужчина, но робкий, а может, на него давит груз Истории, с которой он связан обстоятельствами своего рождения. Он не выбирал свою судьбу: быть сыном эмигранта, расти в постоянном страхе перед Трухильо и в ненависти к франкизму, взрослеть, боясь, что придется унаследовать идею, заведомо обреченную на поражение на этом острове в Атлантическом океане – и никогда не чувствовать себя ни испанцем, ни баском, ни доминиканцем. Просто маленьким Робинзоном Крузо, пленником памяти, к которой он, собственно, не имел никакого отношения. Ты понимаешь это, когда он неуверенно рассказывает, как опознавал труп Галиндеса. Его отец занимался этим всякий раз, когда появлялось сообщение о неопознанном трупе. Самому ему пришлось пройти через это уже после смерти Трухильо в анатомическом театре медицинского факультета, где было выставлено несколько трупов, которые какой-то судебный эксперт, глядя в будущее, сохранил в формалине, чтобы потом предъявить их как доказательство зверств, чинимых режимом Трухильо.