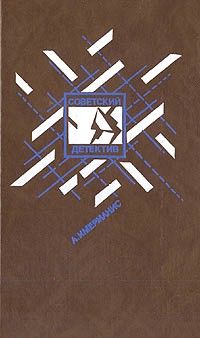Мун закурил сигару. Странно, что в кафе совсем не хотелось курить. Он глядел на темнеющее небо, на перламутровые переливы, от зеленого до розового, и раздумывал над нелепой ситуацией, в которой очутился. Мун твердо решил по дороге в театр рассказать Мэнкупу о своих наблюдениях и принудить его к откровенному разговору.
Но из этого ничего не вышло. Подъехал Баллин на своем малолитражном «форд-таунусе». Усадив Магду, скульптор остался стоять у открытой дверцы. Он ждал Ловизу.
— Ло поедет с нами! — заявил Мэнкуп.
— Но наш…
Муну не пришлось выдумывать предлог, так как Ловиза опередила его:
— Я поеду с Дитером. А ты тем временем спроси своих гостей, какое впечатление я на них произвела. В моем присутствии они будут смущаться.
— Наоборот. Они как раз просили меня не лишать их твоего общества, — усмехнулся Мэнкуп. — Влезай! — Он чуть не силой усадил Ловизу подле себя.
И опять Мун не мог избавиться от смутного подозрения, что это делается нарочно, что Мэнкуп во что бы то ни стало хочет отсрочить конкретный разговор.
Поездка протекала в полном молчании. Улицы одна за другой озарялись огнями световой рекламы. Суматошный калейдоскоп бегущих, прыгающих, вертящихся волчков букв, сигарет, бутылок, женских бюстов, мужских торсов не уступал по размаху вечерней панораме большого американского города. И не будь этого фейерверка в честь великой богини коммерции, своими лихорадочными отблесками придававшего лицам выражение маскарадного веселья, можно было бы подумать, что они едут не на премьеру, а на похороны.
Если мы не разделаемся со своим прошлым, оно разделается с нами.
Магнус Мэнкуп
Театр находился на Алстерском шоссе, которое, начиная от погруженного в безмолвие стадиона Национального спортивного общества до Алстерского парка, было заставлено автомобилями. На каждую машину иной марки приходилось десяток «фольксвагенов», безобразных с виду жуков, прочно вписавшихся в дорожный пейзаж Европы и Америки. Победить в жестокой схватке с конкурентами немцам помогло знание психологии обывателя, которому неважны красота и скорость, лишь бы дешево и удобно.
В поисках свободного места пришлось проехать всю улицу. Дальнейший путь преградила подсвеченная молочными фонарями темно-зеленая стена парка. Регулировщик в украшенной большой бляхой островерхой шапке транспортной полиции, вежливо потеснив владельцев прибывших перед этим машин, наконец нашел для них пятачок свободного пространства.
Они не спеша пошли к ярко освещенному подъезду. Мэнкуп замешкался, запирая машину. Ловиза остановилась. Она стояла под фонарем, почти слившись с сумерками, — продолговатое уплотнение воздуха с резко очерченной тенью, из которого выступала белая рука с блестящей черной сумкой. Мун и Дейли остановились почти в то же мгновение. Втроем они молча стояли, поджидая Мэнкупа. Уже у самого подъезда их нагнал Баллин. У него испортилась пружина дверцы, ему так и не удалось захлопнуть ее.
Посвятивший себя модернистским поискам «Театр в комнате» помещался в старинном здании. Это был такой же парадокс, как то, что интеллектуальные снобы прибыли на премьеру в обывательских «фольксвагенах».
Театральная витрина напоминала своей застекленной пустотой вестибюль метро после закрытия. Ни фотографий актеров, ни сцен из спектакля, одна лишь голая афиша с именем автора и названием пьесы «Перчатки госпожи Бухенвальд» — трезвая типографская заплата на богато разукрашенном классицистском фронтоне.
Спектакль еще не начался. Сцена размером не больше подмостков ресторанного трио лежала в темноте. Что-то смутно поблескивало в глубине выемки. При наличии фантазии нетрудно было представить себе огромную конуру и столь же огромные фосфоресцирующие зрачки притаившегося в темноте цепного пса. А тесно рассаженные в маленьком зале зрители, оживленно болтая, предвкушают минуту, когда чудовище бросится из своей конуры на публику. Как бы страшно оно ни было, цепь превратит его ярость в безопасное, забавное зрелище.
Прокладывая себе путь к первому ряду, раскланиваясь со знакомыми, Мэнкуп называл своим гостям имена известных журналистов, литераторов, актеров или просто состоятельных людей, для которых театр был одним из возможных видов развлечения. Независимо от профессии и состояния, публика разделилась на две половины: одна явилась в тщательно отутюженных костюмах и вечерних платьях, другая демонстрировала полное пренебрежение к портным и парикмахерам.
К своему крайнему удивлению, Мун заметил, что Ловиза собирается сесть рядом с Мэнкупом.
— Вы ведь участвуете в спектакле?
— Мой выход только в самой последней сцене, — пояснила она, усаживаясь в кресло.
Мун решительно оттеснил замешкавшегося Мэнкупа и занял его место. Дейли, применив тот же маневр, пристроился по правую сторону Ловизы. Мэнкуп саркастически улыбнулся, но ничего не сказал.
— Интересно, что нам преподнесут на этот раз. — Баллин зевнул. — В прошлый раз на сцене стояло четыре высоких табурета, изображавших бар. Актеры сидели спиной к зрителям и о чем-то спорили.
— Видите этого толстяка? — Мэнкуп повернулся к Муну. — Он здорово похож на Штрауса. Это Хэлген, при Веймарской республике студент богословия, при Гитлере прокурор имперского суда, а при Аденауэре ведущий театральный критик. Надеюсь, что автор сегодняшней пьесы не погрешит против святынь нации, иначе ему грозит репутация беспринципного графомана.
Мун посмотрел в том направлении и увидел за массивной спиной театрального критика знакомое лицо. Это был Фредди Айнтеллер, уголовный репортер.
В ту же секунду зал погрузился во мрак. На освещенной, почти голой сцене стояли ничем не покрытый стол и три стула. На одном из них уже восседал усталый молодой человек в помятом костюме. Усталым движением он перелистывал папку с документами.
— Не может быть! — Скульптор даже не счел нужным приглушить голос.
Он не был исключением. Публика продолжала разговаривать — кто вполголоса, кто громко, кто тем свистящим шепотом, который акустика разносит по всем углам.
— Чувствуется, что ты никогда не играл в футбол во дворе. Неужели я после всех скандалов и оплеух не сумею отличить настоящее стекло от бутафорского?
— Ну и что? — спросила Магда.
— Как что! — возмутился Баллин. — Для экспериментального театра это совершенно новое направление. У них ведь от одного слова «декорации» волосы встают дыбом. Молодожены должны ложиться прямо на пол, если поставить для этой цели двуспальную кровать, то это считается профанацией искусства.
Усталый молодой человек на сцене продолжал перелистывать папку с документами. Временами он что-то отчеркивал воображаемым карандашом, временами что-то отмечал в воображаемом блокноте, изредка задумывался. Публику он полностью игнорировал, она платила ему тем же.
— Он играет роль следователя! — шепотом объяснила Ловиза. Она единственная из всех старалась соблюдать тишину.
— И долго он будет продолжать в том же духе? — спросил Дейли.
— Кто? Вальтер Хильдебранд? — отозвался Баллин. — Однажды толстый Хэлген спьяна заметил, что молчание Хильдебранда красноречивее воплей шекспировских героев, вот он и старается показать себя с лучшей стороны! — То ли Баллин забыл, что сидит в первом ряду, то ли нарочно дразнил актера.
Усталый молодой человек покосился на него, схватил папку, словно намеревался запустить ее в Баллина, но вместо этого выпил воображаемый стакан воды и, успокоившись, продолжал свое молчаливое занятие.
Зрители начали посмеиваться. Если действие, согласно заложенным Лессингом законам «Гамбургской драматургии», начиналось бы прямо с поднятия занавеса, они почувствовали бы себя оскорбленными. Сюда шли ради эксперимента. Но даже для их изощренного вкуса молчаливая прелюдия затянулась сверх меры.
Почувствовав это, молодой человек застегнул на все пуговицы свой двубортный пиджак и зычно крикнул:
— Анна, садись за машинку! Три копии!
Дейли с надеждой взглянул на сцену. Но на ней ничего не появилось — ни пишущей машинки, ни хорошенькой машинистки.
— Готово? — Молодой человек, расхаживая по сцене, принялся диктовать: — Заглавие: «Заключение по поводу убийства госпожи Эрны Бухенвальд, родившейся в 1914 году в Гамбурге, лютеранского вероисповедания, проживающей по Штреземанштрассе, 31, в собственном доме».
Следовало изложение дела. Явившись рано утром, служанка госпожи Бухенвальд нашла выходящую в сад дверь широко раскрытой. Забежав в спальню, она увидела на постели простыню с кровавыми пятнами. Одеяло отсутствовало. Полицейские ищейки обнаружили пропитанный кровью клочок этого одеяла на заборе, отделявшем сад от примыкающего к нему пустыря. Они же обнаружили на пустыре заброшенный в кустарник пистолет системы «Вальтер», из которого было сделано три выстрела. Экспертиза установила, что кровь на простыне и клочке одеяла относится к группе АБ. Поскольку у Эрны Бухенвальд та же группа крови, факт убийства не вызывает сомнения. Что касается картины преступления, то она вырисовывается следующим образом: застрелив Эрну Бухенвальд из пистолета системы «Вальтер», убийца завернул труп в одеяло и перекинул через забор. Погрузив тело в оставленную на пустыре машину, он увез его, чтобы потопить в Эльбе.