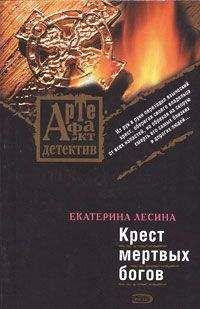Екатерина Лесина
Крест мертвых богов
Жить хочу. Здесь, сейчас, всегда. Дышать, чтоб мерзлый воздух драл горло и горели расцарапанные руки. Боль гаснет, а вместо радости – страх: не станет боли, не станет и жизни. Уйду, потеряюсь в черноте, в темноте, в белесой метели.
Снег в лицо мелкою крупой, слизать, скусить ледышки с губ, проглотить, не ощущая вкуса, и вперед, еще шаг, еще немного, по пояс проваливаясь в рыхлых сугробах. Господи Милосердный, спаси же раба своего, оборони, защити, выведи… не так и грешен Матвей перед Тобою… а в чем грешен, в том и кается. И как не покаяться, когда небо тучи лохматые заполонили, ни кусочка, ни звездочки, ни луны кривой, недоспелой, темнота вокруг да снег.
Пощади, Господи, Матвей уж для Тебя ничего не пожалеет, хоть денег на храм отсыпет, все, что есть, до копеечки, до грошика ломаного распоследнего отдаст за благость-то Твою, за милосердие. А снег роится белыми пчелами, в рот лезет, в нос, и ноги пообмерзли… а идти-то надобно… Шаг за шагом, вперед… грешен Матвей, Господи, как есть грешен. Крал, обманывал, да и чего уж – и смертоубийством не брезговал, однако же в церковь регулярно наведывался, и на купола в соборе новом жертвовал, и на монастырь, который под Москвою закладывали, и к исповеди ходил… так отчего ж не спасешь-то, Господи?
Небо, покачнувшись, просело на землю, накрыло лохматыми лапами, придавило тяжестью, вышибая дух. Каюсь, как есть каюсь…
Жить хочу!
Жизнь возвращалась болью. Горела огнем шкура, кости крутило да ломало, закричать бы, завыть, но губы слепило слабостью неимоверной. Еле-еле сил, чтоб дышать. И жить.
Спасибо, Господи.
– Ослаб он, Выгжа, – голос ласковый, и руки нежные, пахнут хорошо, ромашкою и цветом липовым, прижаться б щекой, заплакать, пожаловаться на то, как тяжко. Не привык Матвей жаловаться и плакать, но от запаха этого, от прикосновения, доброты полного, треснуло что-то внутри, надломилось, как лед вчерашний.
Или не вчера это было?
А что было-то? Охота, погоня, хмель в крови да кровь на снегу… оленя взяли и косулю еще… кабана вот упустили, старый был, матерый, не забоялся, прямо на охотников пошел и Всеволодову коню брюхо вспорол…
Картинки перед глазами вставали яркие, живые, переливалась синевой да зеленью конская требуха, гасли глаза лиловые, потник чернел от крови, да таял на глазах снег.
– Жаром горит, Выгжа. Тяжко ему… – повторил все тот же голос. И вправду жарко, а ведь холодно вокруг.
Тучи в одночасье наползли, серо-черные, набрякшие снегом, провислые. И ветер ледяной, такой, что и сквозь шубу выморозил, вытянул тепло. И темнота, и белые крылья метели, и люди, вдруг исчезнувшие, потерявшиеся в ледяной круговерти.
– Помоги, Выгжа, нехорошо это – человека без помощи бросать, – ромашковый запах обнимал и успокаивал. От мамки тоже ромашкою пахло, и липою, когда Матвейка маленьким был, болел часто, вот мамка и заваривала… мамка померла, Матвей вырос и не болел уже… до этого дня не болел.
Конь поначалу шел галопом, подстегиваемый голосом ветра, после, притомившись, перешел на рысь, на шаг и брел то ли вперед, то ли по кругу, Матвей не подгонял, Матвей берег его, боялся, что конь не выдержит и сдохнет. А тот все ж таки не выдержал, лег в сугроб и не подымался, несмотря на уговоры и нагайку, только глядел печально, совсем как Богоматерь с иконы.
Матвей ножом вспорол шею, напился горячей еще крови, вязкой и безвкусной, мясо есть не стал, не с брезгливости, а оттого, что жевать сил не было. Пить легче.
– Что ж ты молчишь, Выгжа? Неужто не поможешь?
– Помогу, – этот голос был сухой, строгий и неприятный. – Только все одно, зря ты, Синичка, мимо не проехала.
Синичка… смешное прозвище.
На лоб легла холодная рука, и мысли вместе с картинками исчезли.
Некрасивой она была, Синичка-невеличка: тощевата, угловата, личико меленькое, бровки белесые, волосики тож светлые, в худую косицу собраны. Одно хорошо – глазищи, синие да яркие, и голосок тоненький, журчит, переливается водицей с камушка на камушек, убаюкивает.
– Выгжа сказывал, что прежде, давно-давно, так, что теперь и не упомнишь, наши боги над этою землею стояли, – Синичка щебечет и вышивает. Костяная игла белой искоркой мечется в ловких пальчиках, ровные стежки складываются ровным узором. – Сильные были боги, сильные были люди…
Наблюдать за ней приятно, конечно, куда б приятнее затащить девку на печь да не разговором бы развлечься, но живо пока в памяти строгое предупреждение ведьмака Выгжи да взгляд, от которого ноги на полдня отнялися. С Выгжей он потом посчитается, а пока и Синичку послушать можно, какая-никакая, а забава.
– Но случилось так, что сила да власть, которые людям потребны, богов порушили, – Синичка на мгновенье оторвалась от вышивки, чтобы сменить лучину. – Князь Владимир Братоубийца на престол взошед.
Матвей прикусил губу, чтоб не закричать. Да что эта девка глупая говорит, кого поносит! Язычница, поганка треклятая… ничего, придет час, выздоровеет Матвей, тогда и узнают, что значит вера истинная да имя Божие.
Видать, не зря Господь его испытывал, не зря вел сквозь снег и холод! Дело великое предстоит Матвею.
– И сам от богов отрекся, и людей заставил. Выгжа говорит, что по старой правде нельзя было Владимиру, на братьев родных руку поднявшему, стол Киевский брать, что грехи такие только кровью искупалися, – продолжила Синичка, – по новой же вере колени преклони и отпущение получишь. А и вправду так?
– Вправду. – Матвей потянулся было к груди, где прежде висел нательный крестик, самим Филаретом освященный, но, вспомнив, одернул руку. Не было боле крестика, на кожаном шнурке висел знак поганский. И тоже ведь крест, только неправильный, не христианский, равные по длине перекладины, перекрещиваясь в центре, изгибались. И в изгибах этих чудилось Матвею что-то змеиное, грязное, а снять никак. Матвей пробовал, особливо когда окреп достаточно, чтоб с печи вставать, навроде как почти поправился, но стоило снять амулет, как враз худо сделалось, до того холодно, что аж воздух в груди леденел.
– Солнышко это, с горочки катится, – объяснила как-то Синичка. – Выгжа сказал, что тебе только солнышком и отогреваться, сила в нем, тому, кто хочет жить, – поможет…
Жить Матвей хотел, очень сильно хотел. Потому и терпел знак языческий, и почти уже не жалел о потерянном крестике. Господь был в сердце Матвеевом: Господь его спас, не Выгжа, не Синичка с ее отварами травяными, но Бог Милосердный…
Скрипнула дверь, холодом потянуло по ногам. Выгжа. Помяни нечистого к ночи.
– Здраве будь, Выгжа, – Синичка, отложив работу, поспешила к печи. Так уж повелось, что вечеряли втроем – она, Матвей и Выгжа. Особого богатства в хате не водилось, однако еда всегда была сытной и в достатке. Ели молча, по очереди выбирая из горшка рассыпчатую крупяную кашу, сдобренную мясом да травами.
– Не загостился ли ты, добрый человек? – отчего-то Выгжа упорно называл Матвея именно так, «добрый человек», хотя имени своего Матвей не скрывал. Он вообще был странным, Выгжа, не старый еще, крепкий, широкий в плечах. В короткой клочковатой бороде блестело изрядно седины, не меньше и в волосах, которые Выгжа заплетал в длинную, едва ли не до пояса, косу. А вот взгляд живой, цепкий, внимательный да руки гладкие, точно у боярыни. Не воин Выгжа, не пахарь и не кузнец, а знахарь-чернокнижник, супротив Господа умышляющий.
– Скоро весна, дороги размокнут, – повторил Выгжа, глядя Матвею прямо в глаза. – Если ехать куда, то поторопиться надо бы.
– Гонишь?
– Гостей не гонят, гостей упреждают. Болота тут, коль сейчас не уедешь, то до следующих морозов не выберешься, – спокойно ответил Выгжа. – Коня тебе дам, дорогу покажу… не нужно ее запоминать, у тебя, добрый человек, свой путь, у нас свой. Один раз ты уже судьбу повернул, остерегись, другой раз может иначе выйти.
– Завтра уеду. Спасибо за ласку… добрые люди.
Выгжа не обманул, явился засветло, о двуконь. Рыжую кобылу, приведенную чародеем на поводу, явно отдали с того, что не жалко, – старая, хворая, с провисшим брюхом и полинялой, вылезшей шерстью. Ничего, лишь бы добраться до города какого, там Матвей себе коня справит…
– Не дразни судьбу, – повторил Выгжа, – от добра добра не ищут. А крест береги… если жить хочешь.
Не помогло старику Выгже его чародейское солнце. Славно горела языческая деревенька, с четырех концов занялась, полыхнула, раскинулась костром огроменным во славу Господню. И пускай болота, пускай десять дней сюда пробиралися, потому как дорогу, Выгжей некогда показанную, Матвей подзапамятовал. Он же еще тогда воротиться собирался, но пути да тропы и впрямь развезло, размыло, пришлось зимы ждать. И Матвей ждал, боялся, что съедут язычники, переберутся в иное место, но нет, вон она, деревня.