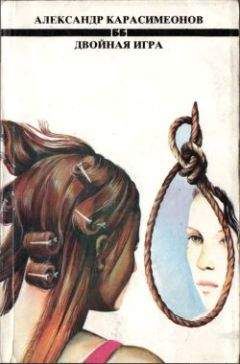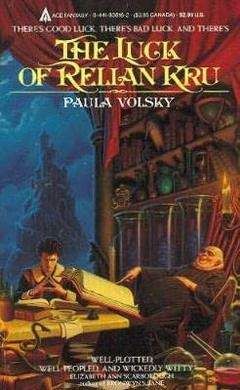Александр Карасимеонов
Двойная игра
Борисов не оставил никакой записки. На даче у него не было ни гардероба, ни стола с ящиками, ни шкафов – если не считать кухонных шкафчиков, заполненных аккуратно, словно женской рукой, расставленными тарелками и чашками. В спальне – две кровати, тщательно, без единой морщинки застеленные одинаковыми покрывалами – красными, с большими черными цветами. На кроватях в живописном порядке раскиданы подушечки. Больше в спальне ничего нет, только настенная вешалка – лакированная доска с четырьмя металлическими крючками. На доске рядом с халатом (я отметил его цвет – красно-черный, в тон покрывал) висел пиджак; Борисов снял его, чтобы тот не стеснял движений, а вовсе не потому, что ему стало жарко: на даче было так сыро и холодно, что любой нормальный человек чувствовал бы себя неуютно в одной рубашке.
Комната, где мы обнаружили Борисова, очевидно, предназначалась для столовой, но ее еще не успели обставить. Лишь круглый массивный дубовый стол возвышался посередине. Две кухонные табуретки с белыми пластиковыми сиденьями составляли компанию этому медведю, и одна из них, валявшаяся у ног Борисова, по всей вероятности, послужила ему подспорьем в последнем сознательном действии.
Осмотр не позволил нам установить происхождение веревки. Никаких других веревок мы нигде не обнаружили, непохоже было, чтобы на даче сушили белье, вряд ли тут стирали – словом, все свидетельствовало о том, что Борисов принес веревку с собой. Будь она намылена, подготовку к самоубийству можно было бы назвать более чем основательной. Но следов мыла на веревке не оказалось.
В пиджаке Борисова мы нашли документы, ключ от «Волво» – машины, стоявшей перед дачей. Судя по пачке «Малборо», в которой оставалось восемь сигарет, и позолоченной зажигалке в кармане, Борисов курил, но в комнатах не чувствовалось запаха дыма, не было и окурков.
Сзади на темно-синем пиджаке я заметил две глубокие продольные складки – так бывает, когда человек долгое время неподвижно сидит (или лежит).
Такие же складки должны быть и на брюках, подумал я. Но на серых шерстяных брюках, недавно отутюженных, их не было. Борисов явно принадлежал к числу мужчин, которые тщательно следят за собой. Белую рубашку он определенно надел утром того дня, который оказался последним в его жизни.
Складки на пиджаке могли образоваться от долгого сидения в машине. Но езды от центра до дачи всего минут пятнадцать. Значит, Борисов ехал откуда-то издалека.
Только вот как он умудрился быть на даче – и не оставить никаких следов своего пребывания? Если представить себе, как развивались события за несколько минут до его смерти, получается, что Борисов, выйдя из машины, поспешно вошел в дом, повесил пиджак, снял галстук, встал на табуретку, привязал веревку к крюку, на котором висел маленький белый светильник… Можно подумать, что он и петлю приготовил заранее, оставалось лишь накинуть ее на шею. Все вокруг стоит на своих местах, он не прикоснулся ни к одному предмету. Четко продуманный план действий, хладнокровно приведенный в исполнение?.. На лице Борисова застыло выражение спокойствия, как у человека, принявшего окончательное, трезво обдуманное решение…
Именно эта исключительная четкость, продуманность действий казалась мне подозрительной. Но к фактам, которые заставляли усомниться в очевидной версии, я мог отнести лишь складки на пиджаке.
Я приказал снять отпечатки с опрокинутой табуретки, ручек дверей и в машине и только после этого разрешил увезти труп.
На следующий день после обеда фотограф Марин Вылчев принес снимки с объяснительным текстом и соответствующими подписями. Я тоже поставил свою подпись. Так был засвидетельствован трагический финал еще одной человеческой жизни.
И тут Марин помахал перед моим носом фотографией, где я был запечатлен рядом с висящим в петле Борисовым.
– Полюбуйся. Ты делаешь стойку – ни дать ни взять охотничий пес! Необыкновенная четкость силуэта на таком бледном фоне. А в фокусе – самоубийца.
– Это еще вопрос, самоубийца ли… Фотограф внимательно взглянул на меня:
– Что-нибудь новенькое?
– Нет, просто размышляю вслух.
– Да будет тебе. Копаешь, копаешь – пора бы наконец остановиться. Ну и дотошный ты!
– Ничего не поделаешь! Профессия!
– Человеку хотелось спокойно умереть. Ну и оставьте его в покое!
– Чересчур хотелось. Сначала он пьет коньяк, потом снотворное – лошадиную дозу, а потом лезет в петлю.
Но Марина не удивишь: трудно удивить человека, проработавшего у нас двадцать лет.
– Двойная подстраховка, – сказал он. – Так кончают те, кому однажды это не удалось, или аккуратисты. А этот, – он махнул «художественной» фотографией, – видно, был человек старательный. Вот и все. А остальное – наша подозрительность!
Я упомянул об этом разговоре с Марином Вылчевым не случайно. По странному совпадению, в последнее время моя собственная личная жизнь давала мне немало пищи для размышлений. Я размышлял над тем, не веду ли я, с тех пор как работаю в уголовном розыске, двойную игру. Конечно, бывает, что человек живет двойной жизнью, но одно дело держать это про себя, а совсем другое – открыто признаться, что ты двуличен… Задуматься меня заставила молодая женщина по имени Недялка – или Неда, как называют ее друзья. Она сказала, что, несмотря на нашу близость, всегда испытывает рядом со мной какой-то страх. Правда, потом она призналась, что это чересчур сильно сказано, и попыталась сформулировать, чем объясняется этот страх. Оказывается – двойной игрой, которую якобы я веду. Притом было подчеркнуто, что это не касается наших с нею отношений, а только моего отношения к, людям – точнее, к моей работе. Она, мол, достаточно изучила меня за два года и, по мере того, как потихоньку наблюдала за мной (в чем и сознается), постепенно стала замечать некое несоответствие. Человек должен подходить к своей профессии (особенно такой, как моя), точно клинок к ножнам. (Сравнение неожиданное в устах такого нежного создания, как Неда. Вероятно, следствие ее увлечения литературой). Я же, продолжала она, при всем своем желании не подхожу для такого занятия, как ловля преступников, по душевному складу. Ей самой неясно, откуда у нее такое впечатление – скорее даже ощущение, – но ведь она ближе мне, чем другие. Вот почему она заботится обо мне, больше того, чувствует свою ответственность за меня. Два года она молчала, и теперь, наконец, настал момент. Ты, сказала она, ведешь двойную жизнь. Перед начальством – впрочем, дело не в том, что перед начальством, а в том, что и перед самим собой, – ты притворяешься, будто тебе страшно нравится возиться с убийствами. А втайне испытываешь глубокое отвращение к своей работе. Тут я не выдержал и красноречивым жестом выразил свое возмущение, после чего Неда уточнила: ну, может, и не отвращение, но ты постоянно вынужден преодолевать какое-то внутреннее сопротивление… Я это хорошо вижу, не пытайся меня переубедить. Единственное твое достоинство, на мой взгляд, – то, что у тебя очень высокое сознание долга, оно и помогает тебе держаться.
Мы разговаривали в Нединой комнатушке – приспособленном для жилья подвале, который отапливается древней электрической печкой. Печка включается в сеть в два приема: сначала надо сунуть вилку в розетку, а потом пнуть печку ногой точно рассчитанным ударом. Я успешно освоил этот легкий пинок, после которого раздается рычание, спираль постепенно краснеет и, проснувшись, печка наконец начинает излучать тепло. Неда усаживается возле нее на пеструю собственноручно вышитую подушечку, а мне предоставляется право расположиться на кровати в какой угодно позе – сидя, опершись на локоть и даже лежа…
Начиная тот памятный разговор, Неда вот так же сидела напротив меня. Печка время от времени угрожающе рычала, и Неда пинком заставляла ее замолчать. Я был уверен, что утверждения Неды о моей профессиональной непригодности безосновательны. Правда, не всегда мне удается скрыть от нее мрачное настроение, но, рассказывая истории из своей служебной практики, я избегаю описания ужасов, хотя сам уже ко всему привык и осматриваю труп с тем же равнодушием, с которым наши врачи делают вскрытие, чтобы дать мне дополнительные сведения. Например, в случае с Борисовым (третьим повесившимся, внесенным в мою личную картотеку) внимание мое было целиком сосредоточено не столько на трупе, сколько на обстановке, окружавшей его. Казалось, складки на пиджаке и упавшая табуретка в тот момент были для меня важными деталями – более важными, чем тот факт, что человек, которого я вижу перед собой, мертв. На самом же деле факт, что человек мертв, вызывает не только вопросы, как, когда и почему он умер. Если ты не совсем очерствел, ты задумаешься о том, что за этим последует. Эта опустевшая дача – словно брошенный в воду камень, от которого во все стороны пойдут круги: ведь смерть – всегда потрясение, что-то вроде внезапного взрыва для родных и знакомых. При осмотре дачи я абстрагировался от всего этого, будто забыл вообще, будто не обладал не только способностью чувствовать, но и воображением, позволяющим представить все последствия…