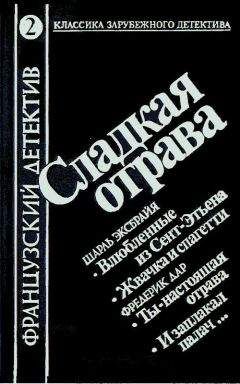Фредерик Дар
И заплакал палач…
Знаете, какое самое грустное зрелище в мире? Это когда видишь разбитую скрипку. Во всяком случае, сердце у меня заныло именно тогда, когда я заметил на дороге раздавленный скрипичный футляр с торчащими во все стороны струнами. Футляр означал несчастный случай даже яснее, чем тело девушки, распростертое у обочины. Пальцы ее все еще впивались в сухую землю, а юбка задралась, обнажив удивительной красоты ноги. Да, мне стало не по себе от этой мертвой скрипки. Она была как бы венцом рокового стечения обстоятельств, приведших меня туда в этот час.
Кажется, чуть раньше я вспоминал о детстве, видимо, из-за этой испанской ночи, наполненной ночными бабочками, которые то и дело разбивались о лобовое стекло с каким-то противным глухим стуком… Бабочки напоминали мне давние летние вечера, когда перед сном я выходил подышать сладковатым ароматом старой липы, росшей за домом.
Каждый вечер я подолгу наблюдал, как в бледном небе сгущаются тревожные тени. Воздух вокруг так и дрожал от шелеста крыльев ночных насекомых, мириадами кружившихся в безумном хороводе.
Я думал о прекрасной потерянной стране моего детства. Фары, будто длинным ножом, вспарывали темноту. В окно машины рвался душный воздух, а слева к мраморному небу поднимался рокот моря. Я снимал комнатку в захудалой гостинице на берегу моря в Кастельдефельсе. Она называлась «Каса Патрисио», а держала ее одна пожилая каталонская пара. Готовили там ни лучше, ни хуже, чем в других местах.
Жилище, хоть и было плохоньким, но, по крайней мере, находилось у самого пляжа. Открывая глаза по утрам, я видел море, оно глухо звало меня в тот час, когда солнце превращается в раскаленную головешку.
Мечта, а не отпуск.
И вот вдруг все переменилось. Все рухнуло из-за тоненькой фигурки, вдруг вынырнувшей из темноты под свет фар.
Со всей силы я ударил по тормозам, и это мгновение длилось для меня дольше, чем самые долгие годы моей жизни. За какой-то миг я осознал, что эта женщина, молодая, красивая женщина.
И понял (это было как отчаянный немой крик), что столкновения не избежать.
Просто удивительно, с какой быстротой иногда проносятся мысли. За долю секунды в моем мозгу возникли сотни вопросов. Кто эта женщина? Что она делала на пустынной дороге со скрипичным футляром под мышкой? И главное, почему бросилась под колеса моей машины? И еще в мою душу закралось тайное, вполне человеческое опасение. Подумав обо всех страшных последствиях катастрофы, я понял: в такой поздний час свидетелей, готовых подтвердить, что это было самоубийство, не найдется.
Потом я почувствовал удар. Почти как если бы бабочка разбилась о машину, но от этого удара я весь содрогнулся. Видимо, мотор заглох, потому что вдруг сама по себе наступила глубокая тишина. Все вокруг меня замерло в неподвижности. Как будто я очутился в каком-то застывшем мире, и почему-то даже плеска волн не было слышно.
Придя в себя, я сначала увидел свои дрожащие руки. Они стали словно чужими и никак не хотели отрываться от руля. Наконец я открыл дверцу и выскочил из машины.
Теплый воздух пахнул в лицо. От шелеста крыльев в нем даже появилась какая-то легкость. Я увидел на асфальте раздавленный скрипичный футляр и снова застыл перед этим вспоротым деревянным брюхом, потерявшим свою волшебную начинку… Что-то жуткое, необъяснимое исторглось из глубин моего существа и застряло в горле. Хотелось заплакать, но подкативший огромный комок не давал рыданиям вырваться наружу… Я повернулся к моей жертве. Она все так же лежала, опрокинувшись навзничь у оврага на обочине. Казалось, девушка покорно приняла смерть, отдалась ей, как измученный человек отдается сну.
* * *
Я склонился над ней. Волнение понемногу начало отступать. Мне никогда не приходилось определять, жив человек или умер, и, наверное, действовал я страшно неловко. Боялся даже дотронуться до нее… В желтом свете фар ее волосы выглядели совсем светлыми. Я протянул руку к еще теплому телу, стараясь уловить биение сердца… И, как ни странно, мне это сразу же удалось, как будто оно само притягивало руку. Она была жива! Я ощутил какую-то горькую, почти болезненную радость.
С бесконечными предосторожностями я стал переворачивать ее на спину. Она была красива! Я даже вздрогнул, оказавшись с ней лицом к лицу. Длинные волосы и чуть выступающие азиатские скулы. Безукоризненно правильные черты лица. Глаза ее были закрыты. От частого дыхания вздымалась грудь… Она застонала…
Надо что-то делать, решил я.
Мне было стыдно за свое смятение. Я взял девушку на руки и рывком оторвал ее от земли. И, потеряв равновесие, чуть было не упал со своей ношей. Тогда, крепко прижав ее к груди, я пошел к машине.
В салоне, при свете лампочки осматривать было удобней. Кроме глубокой царапины на левом локте, нескольких синяков на ногах и шишки у виска, никаких серьезных повреждений не оказалось. Однако радоваться было еще рановато…
Я машинально повернул ключ зажигания. Мотор пару раз чихнул, но завелся. Я включил первую скорость и тронулся с места. Под колесами что-то хрустнуло. Это был футляр от скрипки. Машина рванулась в ночь. Что делать с раненой? В Испании я был впервые, испанского не знал. И поэтому не повез ее в больницу в Барселону. Мне требовалась помощь, а оказать ее в таких обстоятельствах мог только один человек — папаша Патрисио… Мы находились в десятке километров от Кастельдефельса, и поскольку, как мне казалось, состояние девушки не было критическим, я решил ехать в свой пансион.
Всю дорогу моя жертва так и не приходила в сознание. В окнах «Каса Патрисио» еще виднелся свет, и это меня немного успокоило. В таверне была большая комната с выбеленными стенами, служившая столовой. Часть ее, выходящая к пляжу, заканчивалась застекленной верандой, а с других сторон в ней были три двери, выкрашенные зеленой краской. Все они вели в крошечные — не больше пляжных кабинок для переодевания — комнатушки. Никакой обстановки, кроме кровати и стула, там не было. Комнатки больше походили на монастырские кельи, чем на номера в гостинице, но ведь их предназначали в основном для ночлега. Вся жизнь в этих местах проходила снаружи. В сравнении с убогим жильем еще большую привлекательность приобретал огромный пляж, заросший колючими кустами.
Прислуга в «Каса Патрисио», которую нанимали на сезон, обычно спала на матрацах — их на ночь стелили в столовой. В глубине зала за металлической шторкой находился небольшой бар.
Там-то папаша Патрисио и присосался к горлышку своей двадцатой бутылки за вечер. Дважды в день он заправлялся вином, а потом «лечился», поглощая изрядное количество пива.
Когда я вошел, он улыбнулся, так и не оторвавшись от бутылки, запрокинув голову, продолжал пить.
Папаша Патрисио был низеньким жилистым старичком со светло-голубыми глазами и длинными седыми волосами, зачесанными назад. Наконец он поставил на стойку пустую бутылку и глубоко вздохнул.
А потом лукаво подмигнул. На пьяном лице появилось озорное выражение.
— Веселиться Барселона? — сально усмехнулся хозяин заведения.
— Баррио шино?[1]
Вместо ответа я сделал ему знак следовать за мной. Он удивился, но все же двинулся следом, переступая через храпевших на тощих матрацах слуг.
Я оставил дверцу машины открытой, чтобы не погас свет в салоне. Уже от порога «Каса Патрисио» видно было раненую, распростертую на заднем сиденье. Она была похожа на святую, возлежавшую в стеклянной раке. Патрисио даже чуть отпрянул назад.
Он о чем-то спросил меня по-испански и направился к машине.
Старик подошел поближе, посмотрел на девушку и перевел взгляд на меня. С лица его слетела напускная любезность, теперь на меня смотрел суровый, словно выточенный из самшита каталонец.
— Она бросилась под колеса моей машины на дороге…
Он покачал головой.
— Доктора бы, — прошептал я.
— Да…
Вдвоем мы вытащили девушку из машины… Одежда на ней была вся в пыли… Голова ее поникла к левому плечу, а шишка на виске стала совсем лиловой.
— Есть у вас комната?
Патрисио кивнул. Он держал девушку за ноги и боком продвигался к дому. Мы прошли через столовую. Нам повезло: никто не проснулся. Старик толкнул ногой зеленую дверь возле кухни. С тысячей предосторожностей мы уложили раненую на низкую кровать, занимавшую почти всю комнату.
Патрисио тщательно осмотрел ее. Расстегнул шелковую блузку и своими толстыми пальцами начал ощупывать грудь. Это прикосновение мена просто возмутило. Я грубо оттолкнул его руку.
— Доктора!
— До… Иду…
Он вышел, невнятно бормоча что-то — видимо, какие-то пакости в мой адрес. Чуть погодя послышалось тарахтенье мопеда на ухабистой дороге. Я присел на пол у кровати: после всех этих треволнений ноги не слушались меня. Да, ничего себе, встряска. Руки так и дрожали…