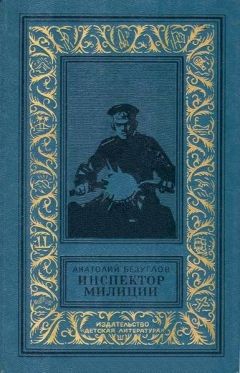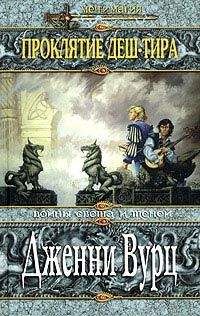Анатолий Безуглов
ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ
Окно моего кабинета выходило на площадь центральной усадьбы колхоза. Из него видны почта, столовая, магазин сельпо, клуб, тир и асфальтированная дорога, пересекающая станицу Бахмачеевскую, что стала местом моей первой службы.
Бросая взгляд на улицу, я почти всегда видел Сычова — моего предшественника, ушедшего с поста участкового инспектора милиции совсем не по своему желанию и теперь обслуживающего днем тир, а вечером кинопередвижку клуба. Сидя на корточках возле тира, он частенько ожидал, когда в магазине начнут продавать спиртные напитки.
Я не испытывал к Сычову никаких плохих чувств, хотя и знал, что его разжаловали и уволили. За что — мне в РОВДе[1] толком не объяснили. Говорили, что он большой любитель свадеб и поминок, которые привлекали его из-за этого самого спиртного. Как относится ко мне он, я понял довольно скоро. Но об этом я еще расскажу.
Одно из первых впечатлений в Бахмачеевской — медвяный запах, волнами прокатывающийся по станице, перемежающийся со степным запахом горьковатого настоя полыни и чебреца.
В первый же день моей работы ко мне вошла Ксения Филипповна и, переставив графин на стол, отсыпала из кирзовой черной сумки на пластмассовый поддон гору крупных, сладких и ароматных жердел.[2] Бархатистые желтые плоды, с перетяжечкой посередине, словно светились изнутри. И в комнате, выкрашенной темно-защитной масляной краской, вспыхнуло солнце, зазвенели тысячи пчел.
— Угощайтесь, Дмитрий Александрович.
Я сразу почувствовал себя мальчишкой, которому посторонняя тетя невесть за какие заслуги преподнесла палочку эскимо.
— Что вы, спасибо!.. Неловко как-то…
— Какая может быть неловкость? Нынче урожай на них дюже богатый. И сушу и варенья внукам наварила, а сняла едва половину. Принесла вот, пусть полакомится кто зайдет. Вы бы сами рвали с дерева, стесняться нечего.
Дверь Ксении Филипповны Ракитиной — напротив моего кабинета. И как ни выглянешь — всегда настежь.
Добрая пожилая женщина — председатель исполкома сельсовета. Взгляд у нее нежный, ласковый. И даже с какой-то жалостинкой. Так смотрел на меня только один человек — бабушка, мать отца. И взгляд этот смущает меня до слез.
Когда я ехал в Бахмачеевскую, в колхоз имени Первой конной армии, в РОВДе сказали, что исполком сельсовета выделит мне комнату для жилья. Ракитина решила этот вопрос очень быстро. Она предложила поселиться у нее, в просторной, некогда многолюдной хате, в комнате с отдельным входом.
Почему-то мне все время кажется: вот-вот Ракитина подойдет, положит мне на голову свою руку, легкую, сухую и теплую, как рука бабушки, и скажет бабушкиным голосом: «Ну, Димка-невидимка, досталось тебе на орехи? А ты не серчай на своих рожателей (это об отце и матери), у них свои законы. А у нас — свои…»
Мне всегда хочется сквозь землю провалиться, потому что председатель сельисполкома в пух и прах разбивает весь запас солидности, который я с великим трудом собираю каждое утро, чтобы принести в свой кабинет вместе с тщательно выглаженной мышиного цвета формой, вычищенной фуражкой и погонами младшего лейтенанта.
Ксения Филипповна садится на стул и смотрит на меня. Ну точь-в-точь моя бабка, когда с полной тарелкой румяных пирожков, которые надулись так, словно вдохнули в себя воздух и не могут выдохнуть, пристраивалась на мою постель воскресными утрами.
Я невольно беру жерделу и надкусываю.
— Как идут дела, Дмитрий Александрович? — Ее пальцы собирают на сукне, покрывающем мой стол, мельчайшие соринки, бегают проворно и быстро.
— Спасибо, ничего.
Удивительно вкусно, черт возьми! Хочется есть и есть золотистые, тающие во рту плоды. Но я смотрю в окно и серьезно говорю:
— Я тут составил план кое-каких мероприятий. Хочу ваше мнение узнать. Надо порядок наводить…
— Что ж, — говорит Ксения Филипповна, — давайте ваш план, посмотрим. Действительно, порядок бы навести неплохо. — Она чуть-чуть улыбается. А я краснею.
Сычов вышел из сельпо. Карман его брюк оттопырен. Я машинально взглядываю на ручные часы. Пять минут двенадцатого. Он нырнул в темную пещеру тира и растворился в ней.
Мои мысли снова переключились на магазин, потому что из него вышел длинный парень в майке и синих хлопчатобумажных штанах до щиколоток. Бутылку он нес, как гранату, за горлышко.
Парень, пригнувшись, заглянул в тир и так же провалился в темноту…
— Я у вас почти месяц и поражаюсь: не продавщица, а клад… Спиртные напитки продает, как положено, — ровно с одиннадцати.
Ракитина кивнула:
— Дюже дисциплинированная Клавка Лохова. До нее мы просто измучились. Чуть ли не каждый месяц продавцы менялись. То недостача, то излишки, то левый товар. Хорошо, напомнил, надо позвонить в райпотребсоюз, чтобы отметили ее работу. Она у нас всего полгода, а одна только благодарность от баб. Вот только мужик у нее работать не хочет. Здоровый бугай, а дома сидит. Ты бы, Дмитрий Александрович, поговорил с ним. В колхозе руки ой как нужны.
— Обязательно, — ответил я. — Сегодня же.
Честно говоря, те дни, что я служу, просто угнетали отсутствием всяких нарушений и крупных дел. Не смотреть же все время в окно?
И вот опять мелочь — тунеядец. Странно, почему Сычов не призвал к порядку этого самого Лохова.
— Я тут подумала — бандура у меня без дела стоит, — сказала Ракитина. — Возьми домой, в свою комнату, все веселей. Оформим распиской. На время.
Сначала я не понял, о чем речь.
— Радио, говорю, стоит. Мне не нужно.
Так вот о чем! У нее в кабинете красуется старый приемник «Беларусь», занимая чуть ли не полкомнаты.
— Нет, нет! — отрезал я категорически. — Вещь казенная и пусть в общественном пользовании…
— Чудак! Для красоты стоит. Я не пользуюсь. А в клубе есть.
Выручает меня телефон. Он звонит отрывисто и хрипло в комнате напротив. Никто не подходит, так как Оксана, секретарь исполкома, укатила в Москву сдавать летнюю сессию в заочный юридический институт.
Ксения Филипповна уходит.
Я облегченно вздыхаю. И машинально начинаю глотать жерделы одну за другой. Мне жалко эту женщину, потому что в Бахмачеевской она живет одна. Четверо ее детей с внуками разъехались. Она заготовляет нехитрые крестьянские гостинцы и отсылает им с любой подвернувшейся оказией. Но, с другой стороны, ее отношение ко мне, как к маленькому, начинает беспокоить меня. Не подорвет ли это мой авторитет?
Ох уж эти двадцать два года! Я бьюсь изо всех сил, чтобы походить на настоящего взрослого мужчину. Но природа меня крепко подвела. Этот младенческий румянец, ямочка на правой щеке, кадык, как зоб у курицы. Но самое большое предательство совершили по отношению ко мне мои собственные усы.
Вы можете себе представить черного, как смоль, брюнета с редкими ржавыми усами? Это, увы, я. А без них нельзя. Потому что верхняя губа у меня вздернута, как у капризной девчонки. Вот и обходись после этого без усов. Нет, я о них давно мечтал. Пусть хоть редкие, но все же усы. Солидно…
Теперь телефон звонит у меня.
— Участковый инспектор милиции слушает, — отчеканил я.
— Забыла сказать, Дмитрий Александрович… (Я не сразу догадываюсь, что это Ксения Филипповна. Ее голос слышно не в трубке, а через дверь.) Когда вы вчера уезжали в район, к вам тут Ледешко приезжала с жалобой.
— Какая Ледешко?
— Из хутора Крученого. Я пыталась поговорить с ней, да она и слышать не хочет. Вас требует. Говорит, грамотный, разберется. — Ракитина засмеялась. — И приказать может.
— Я был на оперативном совещании в райотделе. А заявление она оставила?
— Нет. Сказала, сама еще придет.
— А какого характера жалоба?
— Насчет бычка…
В трубке смешок и замешательство. Потом:
— Вы сами разберетесь. Баба настырная. С ней посерьезней.
— Спасибо.
Через пять минут Ксения Филипповна заглянула ко мне.
— Будут спрашивать, я пошла до почты. Сашка, внучек, школу закончил. Надо поздравить.
— Конечно, Ксения Филипповна. Скажу.
Я видел, как она спустилась с крыльца и пошла на больных ногах через дорогу. И понял, почему насчет Ледешко она звонила: ей было трудно лишний раз выбираться из своей комнаты.
Трудно. Но не для внука.
…Вернулась она скоро. Я, заперев свою комнату, вышел на улицу. Закатил в тень старой груши свой новенький «Урал», еще с заводскими пупырышками на шинах, и медленно направился к магазину.
Сычов с приятелем сидели на корточках по обе стороны входа в тир. Над ними вился сизый дымок местного самосада, духовитого, пахнущего сеном.
Вообще мне было странно, что многие бахмачеевцы курили самосад. Даже некоторые молодые ребята предпочитали его папиросам и сигаретам.