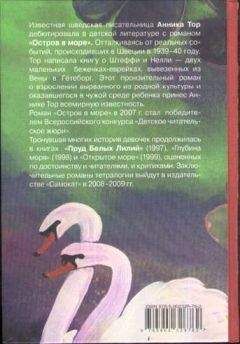Наталия Ломовская
(Кочелаева Наталия Александровна)
Сердцевина граната
Не могу спать. Я не сплю девятую ночь. Я сижу на диване рядом с телефоном, откидываясь иногда на подушки. Телефон молчит.
Кира. Она снилась мне задолго до ее рождения. Теплым солнечным лучом, ласковым котенком на коленях, свежим ветерком, запахом белых лилий. Кира, свет мой, душа моя. Моя пропавшая дочь.
Она исчезла. Перед самым своим двадцатым днем рождения моя дочь покинула меня. Теперь, перебирая в памяти все, что было с ней связано, я понимаю, именно этого, втайне от себя, я и боялась всю жизнь. Странно, что это случилось так поздно. Она родилась с тяжелым пороком сердца, слишком слабая, слишком красивая, слишком хрупкая для этого мира. Больницу, где двухлетней Кире делали операцию, я помню так ясно, как будто это было вчера. Запах лекарств и дезинфекции. Я осталась у дверей операционной, держа в руках драное больничное одеяло и пижамку – зеленую, в желтых утятах пижамку – «Дальше вам нельзя». Накануне доктор в сотый раз предупреждал меня, что не может ничего гарантировать, «это не в наших руках». Но я отмолила ее, в тот единственный раз, когда обращалась с просьбой – к Богу? К небу? Не знаю. У белых дверей операционной. У дверей, за которыми в ясном голубоватом свете ангелы-врачи держали в руках маленькое детское сердце. В палате реанимации старенький анестезиолог украдкой подносил нитку к побелевшим губам Киры – дышит ли?
День за днем, год за годом я вдыхала в нее жизнь. Она была лучшей лилией в моем цветнике, самой красивой и самой капризной, и я решила сделать все, чтобы моя дочь никогда не знала нужды. Никогда не знала никаких забот, несчастий, огорчений. Никогда не плакала. Впрочем, она и так не плакала, даже в колыбели. Я не могла купить ей игрушек и вместо погремушки потряхивала над ее кроваткой цыганским ожерельем варварской красоты – медные бляшки и бутылочные стекла. Как попало ко мне это ожерелье, какой полубезумный старец дал его мне – лучше не вспоминать. Но моя дочь, казалось, знала и об этом, и на ее губах играла улыбка.
Кира – красавица. Она совсем не похожа на меня. Словно и не течет в ее жилах ни капли крестьянской крови. Тоненькая и прозрачная, вся устремленная вверх, словно созданная для полета. Ее огромные серы-е глаза смотрят сквозь лица и предметы. Черные, такие же как у отца, густые волосы (Кира вечно теряет и ломает свои заколки – только что я нашла на коврике в ванной ее шпильку, увенчанную крошечной шелковой лилией) падают на ее узкое бледное лицо.
Рожденная вне брака, она стала самым желанным ребенком на свете. Скажи мне, Долли, где твоя хозяйка? Кира до сих пор играет в куклы. Точнее, в одну куклу. Собственно, Долли и есть тот камешек, на котором держатся мои надежды. Если бы Кира сбежала из дома, как, по словам следователя, принявшего мое заявление, каждый день сбегают сотни двадцатилетних девушек, разве она оставила бы Долли?
Долли-венецианка в пурпурном бархате, любимица моей дочери, молчит. Куклы не разговаривают. Речь – преимущество человеческое. Моя дочь была не вполне человеком. Она говорила мало. Бывали дни, когда я совсем не слышала ее голоса.
Куда она могла пойти? Ей некуда было идти! У нее не было знакомых и друзей, привязанностей… Где ты, Кира?.. Фарфоровая кукла-венецианка не спит. Ее зеленые стеклянные глаза открыты. Когда я смотрю на нее, мне становится легче…
Женщина спала, облокотившись на диванные подушки, прижав к груди фарфоровую куклу. Спала быстрым, тревожным, неглубоким, но крепким сном – как спят на вокзалах, в дороге, в бомбоубежищах в перерывах между обстрелами. Так спят те, кого усыпляет на несколько минут милосердный ангел надежды. Даже во сне она ждала.
Рябь шла по воде. Игрушечные волны всерьез разбивались о крутой берег. На берегу, на летнем лугу, собирала цветы девочка. Девочка в белом платье, с черными волосами, с тонкими руками. Оглянись на меня! Но она смотрит в другую сторону – узенькая речка, близкие берега. По тропинке она сходит к воде, роняя цветы – белые лилии, кровавые розы, черные тюльпаны. Разве такие цветы растут на лугу у реки? Я оборачиваюсь и вижу – девочка уже по колено в воде, по пояс, она уходит все дальше, и нет сил остановить ее, нет голоса окликнуть…
– Кора!
Почему я так называю ее? Почему так сжимается горло? Почему так черна вода в этой странной реке? Почему она пахнет так странно – сталью, холодом, забвением? Что за дерево там, на другом берегу, что за человек там, под деревом? Сгусток тьмы, сердце мрака – и неизвестный плод пламенеет в его руке, как вырванное сердце.
– Кора!
Она не оборачивается. Ее зовут с другого берега. Темный голос, темный, как вода этой реки:
– Персефона!
Туман клубится над рекой. Кора, моя дочь, уходит от меня – бесшумная ладья увозит ее на тот берег. И только венок из белых лилий плывет по воде. Мне нужно до него дотянуться, дотянуться, до…
– Тихо, тихо! Тс-с. Поспи немножко. Вот так, ложись, я тебя укрою. Усни, Александра, усни.
Матушка наша была хорошая женщина, но, ей-богу, с придурью. Это ж надо придумать – Аврора! Удружила младшенькой, нечего сказать. Та, чуть подросла, стала имени стесняться – дразнили ее, как и следовало ожидать, крейсером. Девчонку так задергали, что она к шестнадцати годам, когда паспорт получала, имя сменила. Стала Александрой. И правильно, я считаю. Но вот зачем она сама дочку Кирой назвала.? Какие такие греческие боги ее надоумили? Нет бы – Машей, Дашей или Полиной! В школе дочку Киркой дразнили… Хоть и недолго – после третьего класса учителя к ней домой стали ходить. Как раз и деньги у матери в кармане зашевелились, слава тебе, господи. А до этого чего только мы с ней ни делали – и полы в аптеке драили, и газетами торговали у метро, и посуду по ресторанам мыли… Потом уж цветами она занялась. Без образования сейчас никуда. Александра-то института своего не кончила.
Я про Александру плохого не скажу. Я сама, считай, ее вырастила. Мамка после родов померла – шутка ли шестого ребенка под полтинник родить! Какого угодно здоровья не хватит, а мать всю жизнь была затурканная. Муж гонял ее, как лошадь на корде, все по его делалось. Потому и всех детей нормально назвали, как батя хотел. Меня вот Галиной. Еще были сестры. Ольга и Мария, да уже померли. Аврора – так матушка перед смертью просила дочку назвать, и отец уважил. Все же он ее любил. Как умел. Слишком нрав у него был тяжелый. Только перед смертью умягчился. Тогда Александра как раз из Петербурга вернулась. С кузовком. А он ничего, даже не попрекнул. Меня б со свету сжил! Да не дал бог детей, ни брачных, ни внебрачных. Только мужа-алкаша, да и тот давно загнулся. И вся моя семья осталась – Александра да Кира. Теперь Киры нет. И Александра пропадет. Глаза у нее уже безумные. Девять дней, считай, прошло. Десятую не поспит – спятит, это уж и к гадалке не ходить.
Ленька Морозов был деревенским сиротой. Колченогий, конопатый мальчишка, злой, как волчонок, никому не нужный и не милый. После смерти отца-бобыля мотался по деревне без призора, промышлял мелким воровством. Прибили бы его добрые односельчане до смерти, но поп вступился. Пригрел сироту. Кто говорил – от доброты душевной, кто – польстился отец Василий на дармового работника. Сам батюшка был худ, мал и слабосилен, имел прискорбную слабость к спиртному и в деревенском хозяйстве смыслил мало. Впрочем, человек был незлой и не жадный. Работал у него Ленька от зари и до зари, но кто в деревне иначе живет? А кормил его отец Василий за своим столом, что семья ела, то и он. Только попадья была вредная, приемыша шпыняла нещадно, куском попрекнуть не стыдилась. Но, опять же, брань на вороту не виснет. Поповы дети тоже от мамашкиного нрава немало перенесли.
Но и сам Ленька хорош был – благодарности к благодетелю не чувствовал ни малейшей. От работы не отлынивал, но при любой возможности из дома норовил сбежать. С ровесниками не водился – те дразнили его колченогим, поповским нахлебником. Мальчишка один бродил по лесу, собирал грибы, ягоды, орехи – по времени. Разговорчив не был, да и кто бы с ним стал разговоры вести? Так никто и не знал, что он за человек. Только подпасок Шкалик, прозванный так за неуемную любовь к проклятой, со смехом рассказывал как-то, что видел пацана на Етишкином холме – тот оттуда смотрел на деревню и грозил ей колючим кулаком.
Пропал он летом. Отец Василий взял воспитанника с собой в город – посторожить лошадь с телегой, пока будет по своим надобностям ходить. Но каурая кобылка осталась без присмотра. Ленька сбежал, только его и видели.
Морозов, попав первый раз в жизни в город, сначала словно бы оглох и ослеп. Но быстро пришел в сознание и сообразил по-сиротски хватким умишком – тут прожить можно гораздо слаще, чем у попа в работниках. Прихватил из телеги мешок с поповскими гостинцами и ушел. «Я вам еще покажу», – бормотал он, мысленно прощаясь с постылой деревней. Путь его лежал ни много ни мало – в Москву. Ленька собирался выйти в люди.