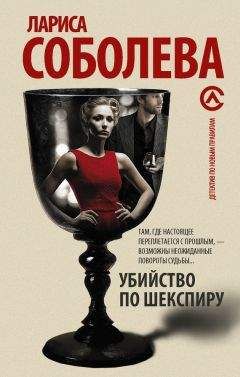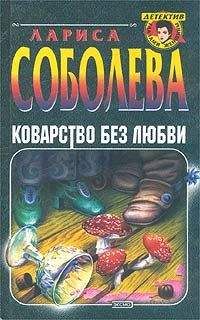Степа открыл дверь в кабинет. Тридцатилетняя Оксаночка с зеленовато-желтыми глазами рептилии, перед которыми замираешь, как кролик перед удавом, сидела за столом, изучая бумаги. Он отметил про себя, что в какой-то степени Куликовский прав: когда б ни пришел в прокуратуру, следователи в бумагах вязнут. Или это совпадения? Он спросил:
— Оксана, делом по театру ты занимаешься?
— Еще не занимаюсь. Дело не передали. Но буду заниматься. А что?
— У меня к тебе предложение. Я был вчера в театре, смерть видел собственными глазами, да и с Микулиным опрашивал свидетелей. Есть у меня кое-какие мысли. Ты не откажешься от моей помощи?
— Я-то не откажусь, — совсем неожиданно для Степы сказала она, отчего он мгновенно поменял о ней мнение. Волгина ему вдруг понравилась: такая симпатичная, почти красавица, очень умная. Тем временем Оксаночка скептически ухмыльнулась, что совсем не идет ей: — А тебе своей работы мало?
— Хватает, — в тон ей ответил Степа, подсаживаясь к столу. — Понимаешь, Оксана, зацепили меня эти артисты. Смотрю себе спектакль, сплю. Можно сказать, с удовольствием сплю. Вдруг артисты умирают! Я, классный опер, даже не догадался, что им и впрямь каюк. Кстати, разобраться будет не просто, я это вчера понял. Так ты согласна на помощь?
— Я что, больная? А какой с меня оброк возьмешь?
— Договоримся, — уклонился Степа, загадочно улыбаясь. — Я сначала подготовлю парня к операции, а позже заеду к тебе. Надеюсь, дело уже передадут. Идет?
— Ладно, жду.
Окрыленный Степа выбежал на улицу, где Луценко Костя слонялся по двору. В магазине купили три бутылки водки и десять пива, Степа поймал такси, и поехали домой. Костя живет в том же общежитии, где и Степа, в однокомнатной квартире гостиничного типа на восьмом этаже. Костя — аскет во всех смыслах. В его комнате нет ни одной лишней вещи, он лучший стрелок, занимается подводным плаванием, коллекционирует монеты и знает о них все-все. То, что он хороший товарищ, с которым не страшно в разведку идти, об этом и говорить не стоит. И — о горе! — не пьет. Менты пьют, это не новость, но то, что пьют поголовно все, — тоже преувеличение.
— Так, — сказал Степа, выставляя на стол, к ужасу Кости, бутылки, — готовимся к операции под названием «бомжик». Мобильник есть? Звони всем знакомым, сообщай, что на неделю уедешь из города по очень важному делу.
Костя обзванивал знакомых, а Степа изучил содержимое холодильника. Не густо в нем: сыр, колбаса, консервы, кефир — в общем, холостяцкая еда. Ну, это даже к лучшему, меньше есть будет. Степа вскрыл банку рыбных консервов. На кусочек хлеба положил шпротину, подумал немного и полил маслом хлеб.
— Об операции ни одна живая душа знать не должна, даже сослуживцы, понял? — сказал Косте. — Дело серьезное и опасное…
— Да объясни толком, что я должен делать? — вскипел Луценко, с подозрением глядя на приготовления.
— Бомжом стать. Перво-наперво предстоит исправить твою благообразную внешность. У тебя не лицо должно быть, а рожа. — Костя пожал плечами. Степа пояснил: — Два дня ты пьешь запоем. Просыпаешься, хочешь попить водички, но пьешь пиво. Потом водку. Затем опять пиво. И старайся поменьше закусывать. Через два дня твоя физия приобретет отечный вид алкаша. Понятно?
— Понятно, — без душевного подъема вымолвил Костя, покосившись на стол, заставленный бутылками. — Не многовато для одного?
— Ты крепкий, — успокоил Степа. — Так, есть еще одна вещь… Костя, одного опухшего вида мало.
— А что надо? — нахохлился Костя, подозревая со стороны Степы каверзу.
— Скажи, тебя по зубам били?
— И я бил, — на всякий случай предупредил Луценко.
— Значит, ты в курсе, что это не так страшно…
— Ну, в курсе и что? Чего ты хочешь конкретно?
— По лицу тебя ударить, — наконец выложил Степа. Косте такой поворот совсем не понравился, он замахал руками, дескать, не дамся. — Слушай, где ты видел бомжа с непобитой рожей? Ну хоть одна ссадина должна быть. Да я только раз… всего-то.
— Ага, не ты же морду подставлять будешь!
— Не выполним задание, Кулик с нас три шкуры сдерет, — аргументировал Степа. — Так что давай, стой спокойно…
— Тогда я сначала выпью. А то на трезвую голову…
— Выпей, — обрадовался Степа, наливая в тонкий стакан водки. Костя взял стакан, где водки было больше половины, задержал его у рта — не хотелось пить сразу столько. Степа подбодрил: — Давай, это классная анестезия.
Луценко залпом выпил, а Степа сразу туда налил пива:
— Запивай. Водка без пива — деньги на ветер.
Костя опрокинул в себя и стакан пива, зашарил по столу в поисках закуски. Степа услужливо поднес ему бутерброд со шпротиной. Тот с жадностью, словно не ел неделю, весь бутерброд отправил в рот, пережевывал. Опьянел он мгновенно, глазки собрались в кучку.
— Ну, становись, бить буду, — сказал Степа, закатывая рукав рубашки.
— Подожди… проглочу… Так. Только ты… аккуратней…
— Все сделаем ювелирно, — заверил Степа.
Не успел Костя приготовиться к удару, как Заречный вмазал кулаком по скуле. Тот взмахнул руками и грохнулся на пол у стены. Озверел. Подскочил, сжимая кулаки:
— Ну, Заречный! Ты труп!
— Спокойно, спокойно, — подхватил его Степа под руки и потащил к дивану. — Мы ж договорились, Костя, ты забыл?
— Помню, — кивнул Луценко так, что чуть не отвалилась голова. — Ты должен был… команды ждать. А ты не ждал. У меня голова треснула. Треснула, я спрашиваю?
Степа бросил безвольное тело на диван, осмотрел скулу.
— Нет, все в норме, — сказал он. — Ссадина есть. И синяк будет. Очень хорошо.
— Тебе, может, и хорошо, а мне… не… — и Костя попытался встать.
— Ты лежи, лежи, — вновь уложил его Степа. — Чего-нибудь хочешь?
— Кушать, — промямлил Костя и сел.
Степа сжалился над ним, принес бутерброд с тоненьким кусочком сыра. Затем придвинул стул к дивану, поставил водку с пивом:
— А это тебе, как проснешься. Проснулся — выпил, заснул. Проснулся… и так далее. Ты меня слышишь?
— Отвянь, — проворчал Костя, заваливаясь на диван.
Степа вышел из его квартиры, нажав на кнопку лифта, сказал себе:
— Опер должен уметь все! Пить тоже.
В театре объявили экстренный сбор. Собрание еще не началось, потому как артисты и обслуживающий персонал подтягивались долго, садились в зале поодиночке, воровато оглядывали присутствующих. Эра Лукьяновна восседала на стуле у сцены, рядом с ней присоседился Юлиан Швец, которого Степа прозвал «мужчинкой», нашептывал директрисе что-то на ухо, бросая таинственные взгляды на вновь вошедших.
Основная часть работников театра собралась. Юлиан Швец окатил зал пристальным взглядом и принялся что-то писать в блокноте, скорее всего, брал на заметку тех, кто не явился. Эра Лукьяновна встала. В зале наступила томительная тишина.
— Докатились, — с большим чувством произнесла она, вложив в слово все свое негодование и презрение. — Уже травите друг друга, да? За последнюю ночь наш состав пополнился тремя трупами! Это уже, простите, нонцес какой-то! Вас и так не уважали в городе, теперь вы полностью покрылись позором! Вам налогоплательщики платят заработную плату, а вы что сделали? Ядом запаслись!..
— Кто-то запасся, — поправил вполголоса Юлиан, не разжимая губ.
— Да, — подхватила она, — кто-то из вас запасся ядом и теперь травит актеров! Я понимаю, ваши инсинуации направлены против меня! Вы тут всех снимали, директоров и режиссеров, меня снять не получилось, надумали трупами выпихнуть? Ничего не выйдет, меня отсюда вынесут только вперед ногами! Я думаю, это будет не скоро. Так вот предупреждаю, отравителя найдут органы, и понесет он самое суровое наказание. Не удивлюсь, если в театре обнаружим бомбу. Так вот, довожу до вашего сведения. Теперь сумки всех входящих в здание театра будет проверять вахтер. Я вам покажу бомбы и яды!
Высказавшись, Эра Лукьяновна отстучала каблуками через центральный проход зала, хлопнула тяжелой дверью, стук удаляющихся каблуков слышался еще некоторое время. Наступила тишина, как в морге.
Встал Юлиан, собравшиеся коллеги обстреляли недоброжелательными взглядами. Но Юлика не прошибешь виртуальным обстрелом. До прихода Эры Лукьяновны это был ничем не примечательный артист, исполняющий роли типа «кушать подано». Она, только она вытащила его наверх, обрушила на Юлиана поток ролей мирового репертуара, многочисленные премии, звание, должность руководителя творческого состава, по сути соответствующая главному режиссеру. Сам Юлиан спектаклей не ставил, не умел. Но руководил… неизвестно чем. Впрочем, нет, он руководил, как ни покажется странным, директором. Это щупленький, не представительный внешне человек лет тридцати семи, похожий на неизвестного маленького зверька. Разговаривает он вкрадчиво, не повышая голоса, ходит осторожно, словно боится наступить на мину, улыбается, пряча улыбку, возможно из-за кривых и редких зубов. Именно он нашел подход к Эре Лукьяновне, ему она верит безраздельно, что ж, любви все возрасты покорны.