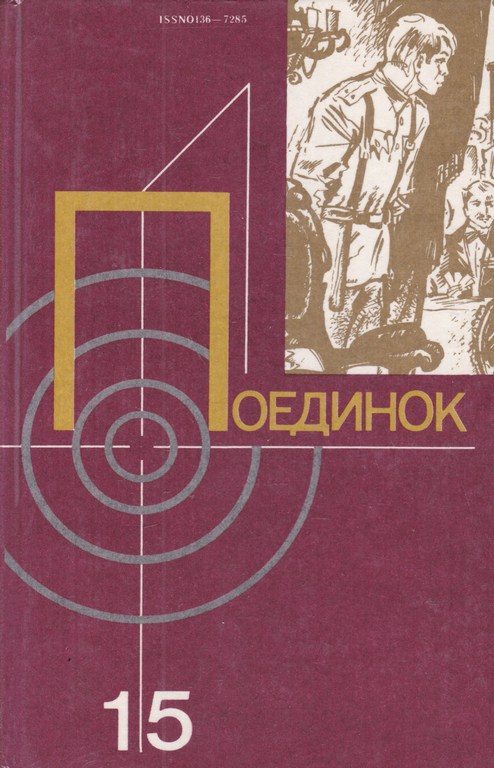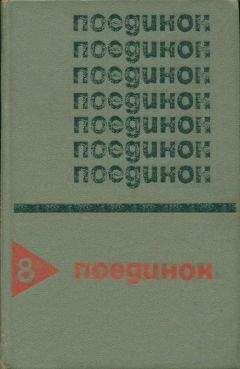Не поеду. Я обязан… — с еще большей жесткостью пояснил он. — Я обязан быть рядом с тобою! Ты — единственный свидетель того, что я…
Никогда еще не был он таким серьезным и торжественным. Я смотрел, ничего не понимая. Да и он смутился. И понес свою обычную околесицу.
— Да, — пробормотал. — Да, у нее были васильковые глаза…
11
Отправлял меня в Варшаву Химмель, какими-то своими воровскими делами связанный с местными интендантами, и перед отъездом оттуда я попал в кабинет подполковника Хакля. Самого его не было, мне предложили обождать, посидеть. В кабинете орудовал помощник Хакля, гауптман, успевая сразу писать, читать и поднимать телефонные трубки Что-то восточное было в этом гауптмане, азиатчина выглядывала из него, желтизна поблескивала в узеньких глазницах, движения бесшумные, словно обут был в мягкие сапожки. При очередном звонке он вдруг перешел на чистейший русский язык.
— …узнал, узнал… Как съездил?.. Ну… Вот оно что… И у меня для тебя новость, только завтра будет объявлено: Гальдера сняли!… Согласен… Нет, две. Только где ты достанешь настоящую смирновскую?.. Договорились: в шесть, там же, с той же…
Он положил трубку и зашелестел бумагами.
Вскоре прибыл Хакль. Дел-то всего было — из рук в руки передать пакет и кое-что на словах. Разговорились. Гауптман неслышно покинул кабинет. От Хакля узнал: Сергей Александрович Тулусов, из князей, семилетним ребенком привезен в Германию, там и воспитывался.
Я запомнил. Авось пригодится.
12
Гальдера, начальника Генерального штаба сухопутных войск, действительно сняли, о чем мы узнали уже в городе, о чем шептались в гарнизоне. Газеты и радио трубили об одном и том же: Сталинград падет со дня на день! Смещение Гальдера как-то не вязалось с пророчествами прессы и уж никак не касалось меня лично: что мне до Гальдера и что генерал-полковнику Гальдеру до меня? И упомянут он потому, что в день его отставки я почувствовал слежку за собой.
Не немцы меня изучали — уж в этом-то я разбирался. Кто-то из своих. Возможно, из тех, кто обосновался в Гридневских лесах.
О них мне скороговоркою доложил Юзеф Гарбунец. Сильная партизанская группа вытеснила из леса мелкие банды, оседлала дороги, вела себя по-хозяйски. «Благодарю, пан управляющий!» — поклонился Гарбунец, сжимая в кулаке деньги.
Почуяв слежку, я не стал менять привычки и скрывать знакомство с обер-лейтенантом Шмидтом. По спине прохаживались вполне доброжелательные глаза, но на всякий случай я посоветовал Петру Ильичу покинуть город на несколько дней, съездить в Ровно. Сам же стал подыскивать место для встречи с людьми из Гридневских чащоб и остановился на доме старухи.
Там я уже не жил. Химмель не упускал случая по-бахвалиться: «У кого жратва — у того все!» И в доказательство обычно открывал сейф, где грудою лежали ключи от лучших квартир города. Выбрал я ту, из окон которой мог видеть дом Петра Ильича, но пускать в квартиру к себе лесных людей не хотел. Неизвестно еще, что за народ и какой они, гридневские, выучки. Стал поэтому захаживать к старухе, обозначая тем самым место, где возможна встреча.
Произошла она в октябре. Землю уже подмораживало, затвердевшая поутру грязь к полудню растекалась. Старуха уверяла, что зима будет снежной. В Сталинграде шли уличные бои, на остальных фронтах — странное затишье. Мне исполнилось двадцать девять лет — и о событии этом не узнал никто, даже Петр Ильич. Мне было грустно. Я не чувствовал себя живым. Мне вообще казалось, что все мы, жившие в стране до 22 июня 1941 года, погибли, и когда весною я постучался в дом старухи и увидел старуху, то первым чувством моим было: неужели она живая?.. Я вспоминал братика, такого чистого и честного, что он виделся как бы прозрачным, хрупким, и в воспоминаниях я негодовал на мать, почему-то братика не любившую Горьким был день рождения, неуютным.
Однажды подошел к дому старухи, оглядел его, не увидел ничего подозрительного и все же насторожился Пухом лежал снежок, покрывая следы. На крыльце — щепки и сучья, старуха недавно топила печь. Теплом пахнуло, уютом повеяло. Закрыл дверь, прошел в комнату. Никого. Сел. Встал, потому что увидел, как от калитки к дому идет добротно одетый мужчина, в бекеше, шляпа надвинута на глаза, усы почти гайдамацкие Мужчина постучал в дверь, получил согласие на вход, тщательно вытер ноги, вошел, снял шляпу — и я узнал Игната Барыцкого.
От испуга и боли я сделал то, что делали в подобных случаях все вооруженные люди: наставил на Игната пистолет. А тот сбросил бекешу, сел рядом, мы положили друг другу руки на плечи и долго сидели, долго молчали Пришла старуха, глянула на нас, молчавших, загремела на кухне посудой Наголодавшись в лесу, я и гридневских представлял голодными и натаскал в дом много еды. Выпили — и опять молчали, мы оба были в 39-м году, и выходить из него не хотелось, на выходе был арест Игната и следователь, добивавшийся от меня свидетельских показаний.
С них и начал Игнат, сказал, что мое отнекивание и вытащило его из лагеря. Освободили в августе, самолетом доставили в Москву, определили в отряд, готовящийся к выброске в Гридневские леса, как знатока здешних мест.
Помнится, был он варшавянином, знал и тюрьму в Быдгоще, только и всего.
— Верно, — подтвердил он. — Но в деле моем зафиксировали, будто в этом городе я встречался с представителями польской компартии. Отрицать это в Москве я не стал.
Что ж, это его право — распоряжаться собственной судьбой. Он выбрался из лагеря достойно, никого не предав. Кроме себя. Знатоком здешних мест он в конце концов станет — и подтвердит этим обвинение. Не позавидуешь: что бы Игнат отныне ни делал — все к худшему.
Чтоб знакомство с обер-лейтенантом Шмидтом не бросалось в глаза, приходилось поддерживать вполне дружеские отношения со многими офицерами гарнизона. Игнат засек их, Петра Ильича тоже, то есть обер-лейтенанта Шмидта. Подробно расспросил о каждом, вникая в городские дела. Об отряде отозвался несколько пренебрежительно, распространяться о нем не хотел.
И я не хотел давать отряду Петра Ильича. Кое-что я уже знал о партизанском соединении в Гридневских лесах и не склонен был доверяться ему всецело.
Но разведдонесение, плод многомесячной работы Петра Ильича, вручил. Читая его, Игнат несколько раз привстал— настолько поражен был полнотой содержащихся в донесении сведений.
— Это все ты?
— Это все — мои уши… Ты бы посидел в «Хофе», такие стратеги там…
Перед уходом Игнат заглянул на кухню, вдохновенно процитировал Мицкевича, строчки о бигосе, польском мясном блюде.