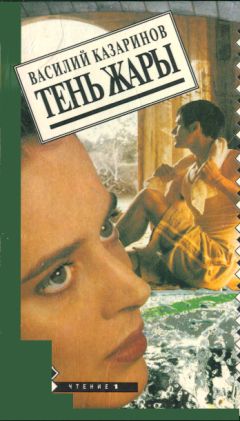– В двенадцать, – ответила я. – Так мне "брат Йорген" сказал. В полдень.
– Пять минут осталось, – возвестил Панин, глянув на часы, и достал из сумки бутылку шампанского. – Просалютуем в честь праздника.
Я подумала, что шампанского всего большого мира не хватило бы на это салютование: приходилось бы нам все последние десять лет стрелять из бутылок – просто каждую минуту палить. Зина уселся за "стол", я опустилась на корточки, прислонилась щекой к березовому стволу, сырому и шершавому, прокрутила в памяти свои комиксы – что-то в них есть от тяжкой сердечной болезни; да, Панин прав, говоря о саморазрушении этого текста, где каждый кадр переживает что-то вроде микроинфаркта – и вот теперь этот сюжет в целом шарахнет инфаркт миокарда, обширный и смертельный; и вот произойдет великое землетрясение, и вышел дым из кладезя, как из большой печи, и помрачилось солнце и воздух, звезды небесные пали на землю, как смоковница, небо свернулось в свиток и исчезло, а луна сделалась как кровь – ну же, всадники небесные, скачите, ваш пришел черед; ты, всадник на коне белом – подними свой лук; и ты, на коне рыжем, взмахни своим мечом; и ты, на коне вороном – крепче держи свою меру в руке; и ты, на коне бледном – приступай, умерщвляй мечом и голодом, мором и зверями земными.
Грохнуло.
Значит – двенадцать.
Я упала ничком на землю и прикрыла голову руками.
Не знаю, сколько я так пролежала, укрывшись, спрятавшись – в себе самой: когда приходит этот Праздник, иного укрытия человеку не дано.
Наконец, я рискнула поднять голову.
Бутылка из-под шампанского дымилась в руке Панина, из горлышка вяло выползала белая пена и осыпалась в плошку с кутьей.
С минуту мы все втроем тупо глядели на это горлышко.
Потом оно начало описывать дугу – медленную, широкую и плавную; размахнувшись, Панин зашвырнул бутылку в кусты, вцепился скрюченными пальцами в волосы.
– Какая бездарность! – выл Панин, ритмично раскачиваясь. – Какая же чудовищная бездарность! Даже этот текст мы не в состоянии отработать по-человечески! – откачавшись, Панин поднял лицо – глаза у него были свирепые и совершенно трезвые; милый друг детства умеет в нужный момент трезветь, совершенно трезветь, кристально. – А ты-то что, ты-то! – заорал он на меня. – Что ты свои Млечные Пути-то через сито просеиваешь?! Что ты дергаешь-то, что дергаешь... Надергала и рада... Солнце стало мрачно, как власяница... Звезды небесные пали... Луна сделалась, как кровь... Да пойми ж ты! – он встал из-за "стола", подошел к березе, поднял меня, поставил на ноги. – Пойми, рыжая, людей убивают и жрут, последний классик прав – есть такой обычай у туземцев Огненной Земли. Поодиночке убивают, как нашего Францыча, и толпами – вон, Белый дом трупами упаковали по самую крышу... Только это важно. А все твои апокалиптические прожилки в тексте – это полная...
Он огляделся и проглотил слово. Впрочем, я догадываюсь, что именно он намеревался произнести, однако вовремя прикусил язык, чтоб лишний раз не тревожить прошлых людей, которые чутко спят под своими холмиками и все слышат.
– Серега, но ведь так было... Я все это видела собственными глазами.
– Точно? – деловым тоном спросил Панин.
– Клянусь!
– Тем лучше! – Панин заметно приободрился. – Значит, будем жить. Нет на свете ни одной территории, кроме Огненной Земли, где люди полностью адаптировались к ситуации пост-цивилизации. Зина, за это надо выпить!
– Нравитесь вы мне, ребята, – усмехнулся Зина, разливая водку по рюмкам: эти бабушкины рюмки, тонкие, изящные, из благородного дореволюционного хрусталя я прихватила с собой – помирать, так с музыкой, под тонкое пение настоящего хрусталя. – Ей-богу, нравитесь. Давайте, переезжайте ко мне жить. В тесноте, да не в обиде – разместимся как-нибудь... А ваши апартаменты за доллары сдадим – у нас их с руками отхватят, это же центр.
Я вспомнила про Андрюшу Музыку – придется его взять с собой.
– Это крайне опасно, – хмуро изрек Панин. – Он же старик. Согласно нашим обычаям, его обязательно кто-нибудь захочет убить и сожрать.
– Панин, – четко произнес Зина, и что-то в его тоне меня насторожило. – Ты, насколько я знаю, на стенде дострелялся до первого разряда? Ну вот, а я – мастер спорта международного класса... Ничего. Отобьемся. Отстреляемся.
– Зина! – закричала я. – Ты мне поклялся!
Ты же поклялся мне, охотник, больше никогда не выходить на охотничью тропу, у нас другая порода, нам ни к чему острые клыки, чтобы жить и выживать, мы питаемся орехами, грибами сушеными и другими дарами природы.
– Ой, ребята, – вздохнул Зина. – Вы все тень на плетень наводите! Тень жары там... А теперь какую будете тень наводить? Без вести пропавших тень? – он сделал резкое движение – рюмки повалились на плащ-палатку. – Поймите вы, кабан – существо страшное, особенно, если его разозлить. Мы встанем у них за спиной... – Зина картинно, как уездный трагик, жестикулировал. – Они поймут... Они почувствуют... И сойдут с ума... Да ни черта они не поймут и не почувствуют! Ты, Панин, своими "Едоками картофеля" им хоть все стены сплошь завесь – от пола до потолка – они и глазом не моргнут, – он провел пальцем по ладони, исследуя на ощупь линии судьбы и жизни. – Предоставьте это мне. Я этот ваш сюжет сумею Дописать как надо. И сделаю это очень профессионально.
– Зина! – истерично выкрикнула я. – Ты мне поклялся!
Он махнул рукой: ладно, поступайте как знаете...
Панин ушел в машину. Через минуту мы услышали стрекот пишущей машинки. Панин крикнул, чтоб ему не мешали некоторое время; ему сегодня рукопись в издательство сдавать, надо дописать последние несколько страниц.
– Ты что, милый друг? – спросила я, заглядывая в машину; Панин в самом деле самозабвенно долбил по клавишам. – Сегодня же Конец Света. Вряд ли твое издательство работает.
Наблюдая за его трудами, я подумала, что скверные же настали времена, если даже богов надо выхаживать и выкармливать козьим молоком.
– Работает, работает, – отмахнулся Панин.
Когда он закончил, я приказала ему садиться на переднее сидение: путь мне во мраке указывать.
– А куда мы путь держим? – спросили они хором.
Известно, куда... В Замоскворечье – там есть один симпатичный особняк, в особняке есть офис, а в сидит в кабинете генерального директора, поджав губы, один человек, которому я хочу сказать, что пришло время платить долги.
– Ты хоть придумала, с чего начнешь разговор? – спросил Панин.
И придумывать нечего, буду говорить по писаному, сказано же однажды и навеки: ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг.
* К характеристике жанра. Все они серьезны до нельзя, но глупы. В толпе их вычислить нетрудно: костюм "найк", банка "Карлберга" в руке. Прежде на курортах особым шиком считалось ходить в полосатых пижамах... Ни черта не меняется в нашем отечестве: опять все в тех же "пижамах" – только теперь от "Найка".
2 * К характеристике жанра. Фундаментальный нравственный итог перестройки, по-моему, состоит в том, что мы наконец жопу стали называть просто жопой, и не утруждаемся отныне поисками эвфемизмов. Собственно, с этого и началось наше близкое знакомство. Я сказал ей: "У тебя очаровательная жопа!" Девушка римских окраин отреагировала сугубо деловым тоном:
– Я знаю.
3 * К характеристике жанра. Название поселка мне хорошо знакомо – старое, славное Подмосковье, километров пятьдесят от города. Значит, здесь теперь располагается одна из собачьих ферм – на таких фермах псов кормят вырезкой, а потом продают за бешеные деньги. Я и представить себе не могу, сколько по нынешним временам может стоить мастиф...
4 * К слову. Наверное, все-таки татаро-монголы не заслуживают к себе подобного скверного отношения. Говорят, эти древние ордынцы были вполне опрятные и толковые люди и с ними можно было поладить.
5 * К характеристике жанра. Значит, дошли до ручки. Если остановится сам Его величество Склиф – значит, всему наступит каюк. Склиф вечен, как вечен конвейер автокатастроф, пьяных потасовок, выпадений из окон, как неумолим упорный мотор суицида. Если Склиф перестанет принимать в свои реанимационные цеха беспрерывные потоки сырья – все эти разбитые головы, раскрошенные кости, вспоротые животы и отравленные дихлофосом желудки – значит, в самом деле конец.
6 * К характеристике жанра. Что ж мы за люди... Сегодня не любить Булгакова – это все равно что разгуливать по Тверской и петь гимн Советского Союза. Моветон. Наверное, на свете нет больше страны, где в отношении одного автора наблюдается такое трогательное единодушие и единомыслие... Я читал роман еще в школе, еще в журнальном варианте; ни черта не понял, зато по поводу и без повода цитировал легендарную фразу про глоток керосина – вот эту самую.