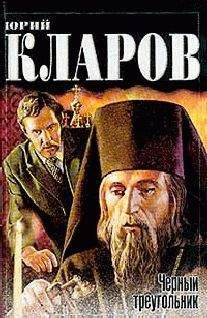Затем молодой человек на мгновенье смолк, вобрал в свою хлипкую грудь побольше воздуха и уже не провыл, а прямо-таки прорычал в зал:
К дьяволу сирени и верески!
К черту Христа любовь!
Залежи проклятий вдребезги!
Сыпься горох голов!
«Горох голов», видно, уже успел надоесть. Слабогрудому хлопали вяло, из вежливости: не местный небось, с самого Киева ехал. А старался-то как? Взопрел даже…
Поэнергичней аплодировали другому, в тяжелых солдатских ботинках и обмотках, который, критикуя различные неполадки в Харькове, резво рифмовал «вон» – «самогон» и «вею» – «в шею». Но по всему чувствовалось, что для вечера поэзии вполне бы хватило одного отделения…
В антракте, когда уставшая от стихов публика повалила из прокуренного зала на свежий воздух, меня окликнули:
– Товарищ Косачевский!
Я обернулся и тут же был ослеплен белозубой улыбкой Драуле. Итак, мы встретилась.
За прошедшие месяцы американка сильно изменилась. Перемены не коснулись лишь углов и прямых линий. Драуле, как была, так и осталась произведением художника-кубиста. Его авторство было бесспорным. Но она загорела, обветрилась, а в ее жестах появилась уверенность и решительность махновца, который лихим ударом отрубил саблей гусю голову и готовился бросить его в котел.
В общем – «Взвейтесь, соколы, орлами!»…
– Не узнаете, товарищ Косачевский? Мы с вами встречались в Москве. Я Эмма Драуле. Помните?
Я припомнил. Но не сразу. Постепенно.
Приходько был великим мастером по производству «случайностей». У Драуле не возникло и тени сомнения в том, что Косачевский оказался в театре «Буфф» лишь потому, что не может жить без поэзии.
В отличие от Москвы, в Харькове Драуле не столько слушала, сколько говорила. Она была переполнена впечатлениями от пребывания в армии неугомонного батьки.
Еще бы! Не говоря уже о том, что Махно впервые в истории попытался материализовать анархистскую идею, поставив ее на колеса своих тачанок, сама по себе махновщина выглядела не менее экзотично, чем племя людоедов в окрестностях Нью-Йорка или Чикаго. Поэтому будущая книга – насколько я понял, Драуле не собиралась ограничивать себя вопросами тактики – должна была пронять самых пресыщенных, ко всему привыкших читателей Америки и Европы. Эта книга должна была стать сенсацией.
Незаметно для себя произведение кубиста подгоняло «длинноволосого мальчугана» под американские стандарты. Щуплый и низкорослый, не выносивший верховой езды, батька в ее восторженных рассказах выглядел мчащимся в прериях на необъезженном мустанге лихим ковбоем в широкополом сомбреро и с лассо в руках. Подобно киногерою вестерна, он вершил справедливость, стрелял, утирал слезы вдовам и сиротам, пил, не пьянея, виски (по-русски – самогон) и вновь вскакивал в седло, чтобы поразить зрителя очередным головоломным трюком…
«Ваши планы, мистер Махно?»
«Осуществление идеалов анархистов в России и на Украине».
«А затем?»
«Анархия во всем мире».
«Анархисты Америки верят в вас, мистер Махно».
«О'кей, бэби!» – сказал он и тронул повод своего коня.
Приблизительно так же в трактовке Драуле выглядели и другие руководители повстанческой армии.
Драуле говорила не умолкая, я не пытался остановить поток ее воспоминаний. Я лишь хотел ввести его в нужное русло, особенно когда она назвала наконец фамилию Шидловского. Мне это удалось.
О Жаковиче-Шидловском я уже располагал обширными и разнообразными сведениями. Но Драуле, следовало отдать ей должное, основательно пополнила мою копилку. Правда, Жакович, как и Махно, приобрел некоторое сходство с американским киногероем, но соскрести с него «американизм» было не так уж сложно.
– Он был раньше очень богатым человеком, – говорила Драуле, – и щедро раздавал деньги революционерам. А потом сам стал революционером. Товарищ Шидловский хочет рассказать американцам правду о русских анархистах.
– Он собирается в Америку? – полюбопытствовал я.
– Да, – подтвердила Драуле. – Это необыкновенный человек. Вы обязательно должны с ним познакомиться.
– Мы немного знакомы.
– Немного – это мало. Вы должны хорошо познакомиться.
Я сказал, что такая счастливая возможность вряд ли представится мне. В Харьков я приехал по делам и через неделю вернусь в Москву.
– Но он скоро здесь будет.
– Скоро?
– Через три дня.
– Ну, где три дня, там и десять…
Нет, товарищ Шидловский точен. Очень точен. Он человек слова. Если он сказал, что приедет через три дня, значит, так оно и будет.
– Он много слышал о вас, – сказала Драуле.
Вот это уже, пожалуй, было ни к чему.
– От кого? От Муратова?
– Нет, от настоятеля Валаамского монастыря.
– Архимандрита Димитрия?
– Да, архимандрита Димитрия.
Ну конечно же Жакович посещал Олега Мессмера на Валааме. Это с его легкой руки отправился в свое рискованное путешествие монах Афанасий, умерший во славу Ванды Ясинской в Омской тюрьме. Видимо, тогда же, весной восемнадцатого, только что приехавший на Валаам Димитрий и беседовал с Жаковичем. Могли они встретиться и в Петрограде. Какое это, в конце концов, имеет значение?
О самоубийстве Василия Мессмера Димитрий тогда еще не знал, но он находился под гнетом московских событий.
Что же он говорил Жаковичу обо мне?
Я вспомнил нашу последнюю встречу в кабинете начальника уголовно-розыскной милиции, где я в тысяча девятьсот восемнадцатом организовал для депутации Соборного совета выставку найденных сокровищ патриаршей ризницы.
Густой запах мира, серебряные алавастры, старинные кадильницы, споротые с саккосов и мантий золотые колокольчики-звонцы, потиры времен Валентиана III и сгорбившийся в глубоком кресле седовласый старик-Димитрий, в прошлом самый любимый преподаватель нашей семинарии, Александр Викентьевич Щукин…
Длинные пальцы архимандрита перебирали янтарные четки, и он цитировал из Экклесиаста: «Что было, то и будет, и что творилось, то и творится. И нет ничего нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость! А уже было оно в веках, что прошли до нас».
Спор наш еще не окончен и вряд ли когда завершится. Димитрий хотел тогда укрыться от кровавых бурь времени за стенами Валаамского монастыря. Но ему это не удалось, да и не могло удасться. Ни от времени, ни от самого себя за стенами не спрячешься. Жив ли он? Я всегда считал, что вовремя умереть гораздо важнее, чем вовремя родиться.
Димитрий и Жакович, беседующие о Косачевском, – забавно!
– Шидловский, видимо, слышал обо мне не только от Димитрия, но и от Кореина?
– Да – подтвердила Драуле.
– Они дружили?
– Товарищ Шидловский очень высоко ценил мысли Кореина о превращении искусства в религию свободного человечества и помогал ему в организации музея изящных искусств. Но потом они разошлись…
– Вон как?
– Товарищ Кореин очень плохо поступил. Очень недостойно поступил, – скорбно объяснила она, прижав к груди идеально вычерченный треугольник подбородка.
– А что он сделал, если не секрет?
– Это не секрет. По его вине в Харьковской каторжной тюрьме погиб один молодой товарищ.
– Галицкий?
– Да, Борис Галицкий. Вы его знали?
– Немного.
Если бы Эмма Драуле работала агентом третьего разряда в бригаде «Мобиль», я бы объявил ей благодарность в приказе. Но ни Муратов, ни она у нас не числились и даже не претендовали на имеющиеся вакансии. Поэтому, выслушав ее рассказ о происшедшем, я ограничился рукопожатием.
Похоже было, что розыски сокровищ «Алмазного фонда» не только выбрались из тупика, но и успешно приближались к своему завершению. В этой мысли я еще более укрепился после состоявшейся на следующий день беседы с найденным через Центральную комиссию по расследованию белогвардейских зверств Народного комиссариата юстиции Украины бывшим заключенным Харьковской каторжной тюрьмы Константином Ивановичем Матвеевым. Когда при отступлении белых из Харькова часть заключенных была расстреляна, а остальных погнали на Змиевское шоссе, Матвееву удалось бежать. Теперь он работал в ЦЕПТИ – Центральном правлении тяжелой индустрии Украины.
В течение семи дней Матвеев находился в одиночке рядом с Галицким и перестукивался с ним через стенку.
– Простите за нескромный вопрос, – сказал он, когда мы с ним наконец нашли укромный уголок в одном из коридоров Центрального правления тяжелой индустрии. – Вы сидели когда-нибудь в тюрьме?
– Да, при царе.
– Тогда вы понимаете, что такое связь с товарищем, от которого тебя отделяет тюремная стена. За это время мы с Галицким сблизились, хотя ни разу не видели друг друга. Он мне рассказывал про свою мать в Тобольске, про жену…
– Он разве был женат?
– Да, ее звали Еленой. Он очень беспокоился за нее. Но это лирика. Вы меня, конечно, не для этого разыскивали.