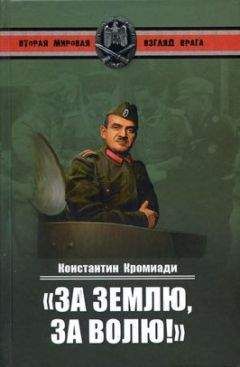— Прежде всего я должен сказать, что, принимая решение о выходе из состава Советского правительства, Центральный комитет не должен настаивать на том, чтобы вместе с народными комиссарами уходили со своих постов заместители и члены коллегий. Иначе надо будет уйти и мне, а вы сами понимаете, как важно для нас знать все, что происходит в ВЧК.
— Это ясно, — перебила Спиридонова. — Ближе к делу, Вячеслав.
— Кроме этого, мой уход из ВЧК лишит нас возможности пополнять наши финансы. По состоянию на первое марта мною передано…
— Обойдемся без цифр, — торопливо перебила Спиридонова. — Самое главное, что эти деньги изымаются не у трудового народа, а у спекулянтов, валютчиков, и мы имеем моральное право расходовать их на нужды нашей партии…
— Совершенно верно, — подтвердил Александрович. — Деньги действительно дармовые. Но я сегодня должен поставить вас в известность, что и мне добывать деньги с каждым днем становится все труднее.
— Дзержинский? — спросил Карелин.
— И он и другие. Особенно секретарь, ВЧК Ксенофонтов и Петерс…
— Догадались?
— Поди узнай, но я начал испытывать некоторые неудобства. На днях совершенно неожиданно для меня начальника отдела хранения, члена нашей партии, — заменили большевиком. Потому я опасаюсь, что поступления могут сократиться. Кроме этого, я должен усилить финансирование отряда особого назначения ВЧК.
— А при чем тут мы? — искренне удивился Карелин. — Финансируйте на здоровье.
— Официально в этом отряде должно быть не более пятисот человек, а там уже около тысячи.
— Можно без подробностей, — снова перебила Спиридонова. — Главное ясно: Вячеславу уходить из ВЧК никак нельзя, даже если все наркомы, их заместители и члены коллегий уйдут со своих постов.
— Я прошу, Мария Александровна, всех не отзывать. Кроме меня надо оставить еще кого-нибудь в ВЧК, иначе Дзержинский выкинет меня немедленно. Вчера кто-то доставил ему бумагу, которую командир отряда особого назначения Попов неосторожно направил в военный комиссариат Москвы с просьбой отпустить отряду двадцать санитарных носилок, столько же медицинских полевых сумок и еще что-то. Я зашел к Дзержинскому, а он меня спрашивает: «Не знаете, с кем Попов собирается воевать?» Понимаете мое положение?
— Ну и как ты выкрутился? — осведомился Карелин.
— Сказал, что Попова надо заменить. Говорю: «Он не в меру воинствен, еще подведет нас». В общем, за Поповым нужен присмотр, а то он действительно какойнибудь кунштюк выкинет.
Спиридонова первый раз за всю беседу улыбнулась:
— Это вы напрасно, Вячеслав. Попов человек храбрый и предан нашему делу до самозабвения.
Карелин и Камков переглянулись — они знали слабость Спиридоновой к храбрым людям.
Спиридонова нахмурилась, встала.
— Подумайте, где можно раздобыть денег…
Приняв от Мартынова дело спекулянта Артемьева, Филатов немедленно вызвал арестованного.
— Ну, жирный, будешь правду говорить? Давай выкладывай, где у тебя еще золотишко припрятано?
— Все тут. Больше ни одной монетки, ничего больше нет. Все отдал.
Филатов порылся в бумажках и рявкнул:
— А где маменькин браслет с камушками?
Разве мог Артемьев предполагать, что ни о каком браслете следователю не известно?
А Филатов, увидев, что арестованный растерялся, подошел к нему, поднес к его побледневшему лицу огромный кулак:
— А где оклады от киотов? Отвечай, сволочь!
Через час Артемьев признался, что в его квартире за большой иконой апостолов Петра и Павла вделан в стену несгораемый ящик.
— Поехали!
Когда Филатов, сняв икону, открыл тайник, Артемьев повалился на пол, повторяя одно и то же:
— Господи!.. Господи!..
Филатов деловито спросил:
— Чемоданчик найдется?
Артемьев на коленях добрался до шкафа, достал кожаный чемоданчик.
Филатов аккуратно уложил драгоценности, сел, закурил, спросил все еще стоявшего на коленях Артемьева:
— Слушай, купец, жить хочешь?
— Чего?
— Жить, говорю, хочешь? Все это мы в протокол заносить не будем. Понял?
— Не будем? Хорошо. А почему не будем?
— Я вижу, ты совсем очумел… Не будем в протокол заносить, вот и все. А ты сейчас вроде как убежишь.
— Никуда я не побегу! Еще пристрелите.
— Вот дура! Я же сказал — вроде… Понял? Документы тебе новые на Сухаревке справлю. Бороду снимешь, жить переедешь во Всехсвятское… Я вижу, ни черта ты не понимаешь, столб деревянный! Но имей в виду — я только свистну, и ты передо мной как лист перед травой!
Поняв наконец, что от него хочет следователь, Артемьев всхлипнул, перекрестился и забормотал торопливо:
— Все сделаю! Все! Благослови тебя господь, золотой ты человек. По гроб жизни…
— Смотри только, не сбрехни кому-нибудь. Со дна моря достану!
— Что ты, голубчик, родной мой! Что мне, жизнь надоела, или я уже совсем дурак, дура, как вы сказали, столб… Вот пол целую, клятву смертную даю…
— Вставай. Придешь завтра вечером, после десяти, на Воздвиженку, девять. Спросишь Филатова. А теперь лети что есть духу.
Покурив, Филатов выбежал во двор и несколько раз выстрелил в воздух.
Появился рабочий патруль.
— Кто стрелял? — строго спросил пожилой рабочий.
— Один гад у меня ускользнул.
Филатов предъявил мандат. Пожилой сочувственно спросил:
— Попадет тебе, товарищ Филатов?
— Всыплют… И куда он, сволота, делся? Как в яму провалился!
Филатов спросил фамилии, записал.
— На всякий случай, — пояснил он. — Вдруг потребуетесь. Надеюсь, не откажетесь подтвердить?
— Ну как не помочь!
Филатов подождал, пока патрульные завернут за угол, и пошел домой.
Дома его ожидало неприятное известие: кто-то из чекистов арестовал его отца.
Андрей позвонил профессору Пухову, попросил приехать в ВЧК.
— Куда приехать?
— В ВЧК. Во Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, — объяснил Андрей. — Большая Лубянка, одиннадцать. Моя фамилия Мартынов.
— Понял. Но вы не перепутали, товарищ Мартынов? Возможно, вам какой-нибудь другой Пухов нужен, поскольку я ни контрреволюцией, ни саботажем, ни тем паче спекуляцией не занимаюсь. Ни я, ни жена.
— Именно вы, Александр Александрович.
— Странно… Вы говорите — приехать. На чем? Трамвай не ходит, извозчики мне не по карману, собственного выезда у меня, к сожалению, нет. Поэтому я задержусь, поскольку буду добираться на своих двоих. Вас это устраивает?
— Вполне, Александр Александрович. Пропуск вам заказан.
Профессор, видимо, ожидал увидеть совсем иного человека — это было заметно по его легкому замешательству.
— Вы товарищ Мартынов?
— Я, товарищ Пухов. Присаживайтесь, пожалуйста.
Пухов улыбнулся:
— Я, знаете ли, представлял, что увижу матроса с бородой, как у Дыбенки…
— Вы с ним знакомы?
— Не имею чести. На митинге слышал. Чем обязан?
— Скажите, профессор, не было ли у вас золотого портсигара с надписью: «Александру Александровичу…»
— Как же, был.
— А где он сейчас?
— Если, молодой человек, вы хотите его у меня отобрать, то вы, к сожалению, опоздали. Что было, то сплыло. Некоторое время тому назад я его выменял на пуд крупчатки.
— У вас тогда супруга заболела?
— Совершенно верно. А откуда вам это ведомо?
— Это не важно, Александр Александрович. Председатель ВЧК товарищ Дзержинский поручил мне вернуть вам портсигар. Получите его, пожалуйста…
Андрей выдвинул ящик, переворошил все бумаги — портсигара не было!
В дверь постучали.
— Можно?
Андрей, холодея, глухо ответил:
— Пожалуйста, входите.
В комнату, улыбаясь, вошел Феликс Эдмундович, еще издали протянул руку профессору Пухову:
— Дзержинский. Здравствуйте, Александр Александрович!..
Помощник дежурного стучал в двери:
— К Дзержинскому! Немедленно!
— Где Александрович? — спросил Дзержинский Ксенофонтова, когда все собрались.
— Болен. Испанка.
— Где Мальгин? Где Полукаров?
— На операции.
— Начнем без них. Товарищи! У нас произошло невероятное событие… — Дзержинский на мгновение умолк, подбирая слова. — В нашем доме появился вор. Да, да! Не смотрите на меня с таким удивлением. Я поражен не меньше вас. Среди нас — вор! Вчера вечером сотрудник Андрей Мартынов положил в ящик письменного стола изъятый у спекулянта золотой портсигар с дарственной надписью, по которой можно судить, что эта очень дорогая вещь принадлежит крупному русскому ученому. Портсигар из стола Мартынова украден!
Кто-то глухо сказал: