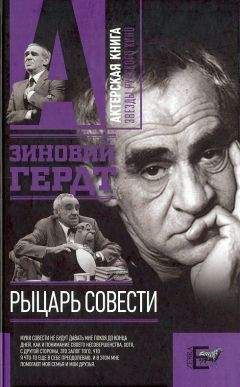«Кто-то со свитой», — уклоняясь от ветра, подумал Климов и, завернув за почту, оказался во дворе, тесно застроенном верандами, мансардами и сараюшками. Давно предназначенные под снос, эти хибарки чудом уцелели в центре города, должно быть оттого, что каждый год подлатывались, подновлялись, красились во всевозможные цвета, белились густо насиненной известью, кряхтели от дождя и сырости, как их жильцы, но все еще цеплялись тамбур к тамбуру, верандочка к сараю. Медленно врастая в землю, они кособоко тащили за собой прогнившие в подпольях доски, бочки с квашеной капустой, старые фанерные комоды, ящики из-под гвоздей, помятые картонные коробки, сырость, хлам и запах плесневелых огурцов. Во многих окнах стекла были скреплены замазкой.
Строения ветшали, подгнивали, осыпались.
Что на окраине, где доживала свои годы баба Фрося, что здесь, в центре, в унизительном соседстве с площадью и монументом, Климов чувствовал, что Ключеводск серьезно болен. Обречен. На вымирание. Болезнь шифровала свои письмена, но ее тайнопись уже читалась им. Да и не только им. Вон, как образно подметил Петр: «Хоть иди и зарывайся в землю».
Безработица.
Горотдел милиции располагался в двухэтажном крепеньком особнячке, подъезд к которому был посыпан песком и замусорен листьями. Ветер шевелил их, встряхивал, перебирал и, не найдя красивых, сбрасывал к бордюру, отметал под водосточную трубу.
Капитана Слакогуза в кабинете не было.
Паспортистка, выглянувшая из своей каморки, подсказала, что «они» будут здесь с минуты на минуту.
— Подождите.
Зная, что это такое «с минуты на минуту», тем более в заштатном городке, где время забывает про свой бег и переходит на размеренно-неспешный шаг, Климов сел в указанное паспортисткой «кресло», нечто среднее между качалкой и казенным табуретом.
В таком же «кресле» у стены, расписанной «под дуб» местным умельцем, сидел еще один скромняга-посетитель, ожидавший капитана.
Легонький, странненький, как облетевший одуванчик.
Зрачки его плавали, щеки ввалились, пальцы вздрагивали.
Он сидел в замызганной белой сорочке, грязных брюках и в носках — без туфель.
Было видно, что ему несладко.
Он что-то спросил убито-квелым голосом у паспортистки, задержавшейся возле своей двери, и та ответила ему, что «нет, нельзя» с тем нетерпением, когда любые проявления людского такта кажутся излишней церемонностью.
Мужичонка, а иначе и не скажешь: мал и худ, зажал виски руками, покачнулся и заплакал.
Натурально.
Плакал тихо, обреченно, позабыто.
Так он, может, плакал только в детстве, за кадушкой, получив от матери затрещину за опрокинутую наземь — не нарочно же! — цибарку с молоком.
Так плачут не от боли, а от собственной вины.
«Пусть выплачется, зря не плачут», — подпер щеку ладонью Климов, снова ощущал неприятную нудьгу в области зуба.
Надо удалять.
Он вспомнил, что еще у гроба бабы Фроси хотел облегчить свою участь аналгином, и полез в карман, отыскивая в нем таблетки.
Аналгина не было. Должно быть, выронил в купе на полке ночью, когда шарился во тьме, стесненный потолком. А может быть, на въезде потерял, когда переворачивался через спину, отпрыгнув от «Камаза»… Пистолет на месте, документы… Паспорт здесь, билет обратный… вот он, удостоверение… его как раз и не было. А вместе с ним и права на ношение оружия… Хреново. Но не страшно. Оружие он применять не собирался, а удостоверение, конечно же, осталось в ватнике, в котором он бежал из психбольницы и в котором был, когда Андрей «брал» стоматолога.
Все верно.
Главное, что паспорт с ним и пистолет на месте.
Мужичонка так же тихо, как и плакал, расстегнул сорочку, промокнул лицо подтянутым воротником и посмотрел на Климова с запуганной печалью.
— Извините. Думал: не доеду.
Он двумя ладонями скользнул по подбородку, ощутил щетину, извинился, что небрит, как будто Климов выбрит, сам такой, если еще не хуже, и скрестил худые, в темных узлах вен, подрагивающие руки на коленях.
— Чуть живой остался.
Климов понимающе отвел глаза, словно в том, что мужичонка «еле жив остался», была его вина.
— Самолет, — снова вытер слезно заблестевшие глаза тщедушный мужичонка, и Климов почему-то сразу же подумал об аварии. Перед его глазами заструился воздух, колеблемый горячим и безудержным дыханием надсадно взревевших двигателей, воздух, размывающий очертания диспетчерской настройки аэропорта и затмевающий бесстрастные огни подхода охватившим крылья самолета пламенем. Когда его с границы перебросили в Афганистан, он начал службу в батальоне аэродромного обслуживания и ему хорошо было известно, что это такое: еле жив остался.
— Шасси сломалось? При посадке? — Прикидывая вслух, Климов пытался угадать причину катастрофы, теперь уже внимательно разглядывал жертву аварии. Кончики усов у того были блеклыми, белесоватыми, видимо, он часто их прикусывал.
— При высадке.
Мужичонка глянул желто-воспаленными глазами и опять скользнул ладонью по лицу. Чувствовалось, что ему о происшедшем говорить не больно-то хотелось. И с этим Климов сталкивался в своей работе. Уголовный розыск многому учил. Так он заметил, что люди, подвергшиеся психической или физической травме, изощренному или простому надругательству, чаще всего немногословны, оглушенно-замкнуты, чего не скажешь о других пострадавших. Может, он и ошибался, но люди, впервые обворованные, обкраденные, казались ему ужасно болтливыми. Они как бы вживались в новое для себя состояние, состояние тех, кто так или иначе связан с преступлением, и все не могут подобрать слова, чтобы выразить себя в этот душещипательный момент. Складывалось такое впечатление, что их больше ничто не заботит, как только перемены, происходящие в них, что они больше никуда не спешат, не торопятся, разве что страстно хотят скорейшего возвращения похищенного добра. Правда, надо отдать должное тем, кто сам всю жизнь таскал, носил и приворовывал. Эти, да, неразговорчивы. Даже покрывают иной раз грабителей, действуя по принципу: лучше отдать меньшее, чтобы сохранить большее.
— При высадке, — через довольно продолжительную паузу еще раз произнес мужичонка и голос его дрогнул. — Извините, не знаю вашего имени…
Климов внимательно посмотрел в глаза пострадавшего и умягченно-обезличенно ответил, что зовут его Юрием Васильевичем.
— …а я Петряев… Иван… Максимович, — с трудом справляясь с каким-то внутренним сопротивлением, представился он Климову. — На полной скорости из «рафика». Спасибо, головой не об асфальт… не рассчитали.
Он помедлил, не зная, как назвать тех, кто выкинул его из машины, и не назвал.
Климов кивнул и понял, что ошибся: катастрофы не было. Обычные бандиты.
— «Рафик» черный? — ища подтверждения своей догадке спросил Климов, и Петряев горестно развел руками: — Не запомнил. Я ночью прилетел. Не разглядел. Но краска темная, может, и черный. Не скажу.
— Откуда прилетели?
— Из Тюмени.
— Во сколько? — спросил Климов.
— В два-сорок… или… что-то там с минутами.
— Вы здесь живете?
— Жил, — сказал Петряев и отрешенно запрокинул голову. Наверное, сказалась боль в затылке: настолько резко передернула его лицо гримаса нестерпимой муки. Он тронул голову рукой, щадя ее, как от удара, и горестно-изнеможденно усмехнулся: — Вот мне, когда я прилетел, и подсказали ехать на попутной…
— Подсказали или…
— Предложили. Я знаю, что автобусы не ходят, электричкой добираться долго: сперва до полустанка, а там опять же на попутной… В общем, думал: повезло… а оказалось… жилистую его шею перехватила спазма всхлипа, — деньги, вещи, чемодан у них, а я в кювете…
— А милиция? — как-то беспомощно, по-бабьи, спросил Климов и в горле запершило. Ему передался ужас пережитой человеком ночи. Даже прижал веко, чтоб не дергалось.
— Милиция… — Петряев смежил веки, что-то для себя решая, и пожал плечами: — Что она? Вот жду… Добрался до ГАИ. Все рассказал. Потом — в милицию. Там объяснял. Те позвонили в Ключеводск, сказали, что ограбили меня в его границах, аэропорт, мол, ни при чем, не их район. Езжай, мол, в Ключеводск. Я и приехал.