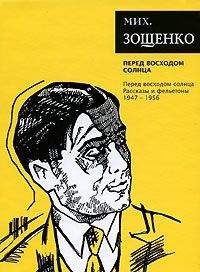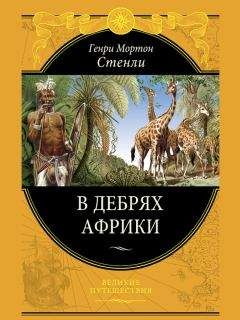Что-то во всей этой african story не складывалось. То ли Фаддей Петрович сознательно опустил некоторые вешки своей биографии, то ли позабыл за давностью, то ли существовала ещё какая-то причина? Хотя его информация была во многом правдива. Вспомнил про Доспехова, например. А про африканскую страсть жены умолчал. И то правда: не рассказывать же первому встречному о слабостях парадного подъезда своей любимой супруги? Да и когда это было? А вот что касается «комиссии»? Не нравятся мне такие инспекции. После них возникали проблемы. Со здоровьем. И жизнью. У тех, кто неправильно понимал авангардную роль партии в истории международного освободительного движения.
На вопрос об этой таинственной инспекции, канувшей в глубину веков, мог ответить только Фаддей Петрович Фирсунков, этот зыбкий человечек, любитель алых тюльпанов.
И что мешает мне навестить подмосковный райский уголок? Где сибирские пельмени с солдатскими пуговицами. Где наливочка цвета летнего заката. И где меня ждут с нетерпением. В качестве жениха?..
К счастью, мое последнее предположение оказалось ошибочным. Когда я подъехал к дачному терему-теремку, то обнаружил картину обновления. У забора стоял крепыш с обнаженным офицерским торсом, но в старых галифе и красил доски. В ядовитый зеленый цвет. На его армейском мусале блуждала озабоченная хозяйская улыбка. Дом уже был подвержен лакокрасочной экзекуции; вокруг него суетились две дамы в неглиже.
Выбравшись из машины, я направился к калитке. Маляр несказанно удивился:
— А вы к кому, собственно?
Я хотел опрокинуть ведро с краской на голову хозяйчику, но решил подождать. Пока. Молча прошел на дачную территорию. Услышал жалобно-требовательный голос от забора:
— Лилия Аркадьевна, это что, к вам?
Мадамы всполошились, точно под их белы ноженьки плюхнулась выпрыгивающая мина ОЗМ-72. Такая реакция вполне понятна: когда такая мина взрывается, две тысячи стальных шариков превращают зеваку в фарш. Впрочем, я как-то не был готов к роли ОЗМ-72.
— Что такое, что такое? — закудахтала Лилия Аркадьевна, старая крашеная курица. — Не волнуйтесь, Артур, это вредно… — И мне: — В чем дело, гражданин?..
Я несколько оторопел, если не сказать точнее — удивился. Очень. Как, меня не узнать? Такого молодца? А кто в зимний вечер был готов играть мне гаммы Штрауса? И плясать в голом виде? (Шутка.) Обидно.
Обидно, ждешь радушной встречи с прыгающими в едалы[239] пельменями, а получаешь отчужденный вопрос в жевалки.[240] Неужели меня не узнали?
— Артурчик, так это наверняка к Фаддею Петровичу, ха-ха, — отмахивала белесо-жирноватыми руками. — Вы же к нему? — спросила с напряжением. Видимо, опасалась, что я пришел делать предложение её деревянной по пояс[241] дочери Ирэн. Фаддей Петрович у себя. — И указала на теплицу, светлеющую стеклом за кустарником.
Я шаркнул ногой и пошел по тропинке. Увы, моя хрустальная мечта качаться в гамаке с думами о маршальском жезле разлетелась вдребезги; кто-то другой будет убаюкивать себя сладкими грезами…
Кто этот кто-то? Кто этот счастливчик? Кажется, я знаю ответ.
Приближаясь к знакомой мне теплице, я обнаружил странное захламление в её окрестностях. Банки-склянки-жестянки — как осколки от пищевых снарядов. Не здесь ли проходит линия фронта между новым миром и старым?
Я оказался недалек от истины. В теплице был устойчивый запах перегноя. На грядках тлели мертвые цветы. Что за перемены в раю? И словно услышав этот мой душевный вопрос, в углу случилось некое телодвижение — и перед моими изумленными салазками[242] предстал ханыга в облике… Фаддея Петровича. Я сел, потому что стоять мне не позволила совесть.
— Кто тут? — прохрипел бывший дипломат. — Я просил… меня не беспокоить. Basta!
— Фаддей Петрович, что это с вами, дорогой? — не сдержал я нервного смешка. — Что случилось?
— А то! — икнул. — Протест!..
— Протест? Против чего?
— Против всего… этого… — Махнул рукой в сторону дома. — И того тоже. — Плюнул на себя. — Пппьешь?
— Пью, — сказал я по такому случаю.
— А этот… Артур-р-рчик не пьет, — проговорил, как выматерился по-черному. — Не пьет, здоровье бережет, дурак… — Вытащил бутыль с малиновым горем.[243] — Из уважения, говорит, к жене и вашей дочери, будущей матери моих детей… Тьфу…
— Так это супруг Ирэн, как я понимаю?
— Совершенно верно, молодой человек… — Неверной рукой разлил пойло по стаканам. — Спелись они там… А я спился в знак протеста.
Я покачал головой. Воистину русский человек — загадка природы. Кто мог подумать всего полгода назад, что затюканный бывший атташе способен на сопротивление. По форме странной, но по сути — верной. Хотя что-то, видимо, подвигло Фаддея Петровича на этот подвиг?
— Ну-с, за нас, свободных от ига иродового племени, — и плеснул в себя стакан.
И пока он заглатывал разбавленную радость жизни, я тоже выплеснул стакан. В цветочный сухостой.
Потом мы занюхали рукавами, каждый своим, и уставились. Друг на друга. Лицо моего собутыльника обмякло; так обмякает воздушная гондола на земле, когда в неё пытаются без особого успеха нагнать горячего воздуха.
— Извините, мы, кажется, знакомы? — осторожно поинтересовались у меня. — Знаете, хорошая память… зрительная… но…
Я напомнил. О пельменях. И медной солдатской пуговице, мною прокушенной. Фаддей Петрович просиял: ба, Александр, по батюшке Владимирович. Как же, как же, помнит, помнит. Какая нелегкая занесла меня снова в этот чертополошный край? Я ответил. Фаддей Петрович в глубокой задумчивости наполнил стакан бурдой.
— Комиссия-комиссия!.. Сколько их было… Уж больше двадцати лет прошло… Не помню.
Я накрыл ладонью наполненный стакан.
— Надо вспомнить, Петрович.
— Саша, — укоризненно проговорил мой собутыльник. — Вы травмируете мою психику. Так я и маму родную не вспомню.
Я вынужден был убрать длань с напитка богов и бомжей.
— Фамилия такая… обыкновенная… Типа Иванов…
Бывший дипломат наморщил лоб, будто собственную жмень[244] во время утренней физзарядки в дощатом хез тресте, что за огородом. Потужился, бормоча разнокалиберные имена; устал.
— А более ничего, Александр? Наводящего? — и снова заглотил горе. Бррр! Из старых запасов… Знаешь, почему пил?.. Жил с перепуганной душой… От страха и пил…
— А сейчас-то?
— От радости. Все, нет страха. Ничего не боюсь. Саша, веришь?
— Верю, — задумался я, решаясь дать дополнительную вводную для памяти бывшего атташе. — Фаддей Петрович, вы меня правильно поймите, но в те времена… ваша супруга, так сказать, имела честь, так сказать, не совсем вам принадлежать… — Тьфу, и это мое разительное жало?[245] Что со мной? Наверное, слишком нервничаю. Так бывает, когда нервничаю, или шучу удачно, или говорю комплименты. Как в данном случае. Потому что чувствую, ещё усилие и…
— Не понял, — икнул бывший дипломат, а ныне свободный гражданин мира. — Ты про что, сынок, что е…! Так это я знаю. У неё же специальная… записная… — И недоговорил. Мы снова уставились друг на друга. Погоди-погоди, Владимирович, у неё же все как в бухгалтерии… Где, когда, с кем и как… Это что-то… Я три дня и три ночи читал. От корки до корки. Полюбопытствовал. Когда они к этому Артур-р-рчику в Тамбовскую область у мамани благословения…
— Где? — тихо спросил я, словно боясь испугать удачу.
— Тамбовская, ик, область?
— Записная книжка. — Я почувствовал, как вскипает моя кровь. От напряжения.
— Там, — отмахнул рукой в сторону крашеного дома. — В тайнике. Как бы. Только тот тайничок всем известный… — Потянулся за бутылем. — Я хотел удавиться, чтобы красиво. Когда изучил… правду жизни. А потом думаю: шалишь, Пердович, теперь-то имеешь право пожить в согласии с самим собой… Имеешь? Ну и живи… Вот и живу…
— Пердович, в смысле Петрович, — зарапортовался я. — Нужна эта книжуля. На пять минут.
— А какие проблемы?
— Как какие?
— Вытащить на солнышко портянку, пожалуйста. — Поднялся, сел, снова поднялся, качнулся. — Сейчас-сейчас, Александр, атмосферный столб давит… на темечко…
Признаюсь, мне показалось, что я нахожусь в филиале дома печали имени красного профессора Кащенко. В детстве я увлекался криминальным чтивом. Помню, все герои были умны, кристально честны перед буквой закона, не пили, не курили, женщин любили исключительно в галошах… С таких героев хотелось брать пример. Но, слава Богу, жизнь — стихия и выплескивается из русла импотентных худизмышлений. Куда интереснее в дурдоме, чем в стерильной камере смертников, это правда.
— Значит, так, Александр, даю диспозицию, — проговорил гражданин Вселенной. — Я иду в обход… Огородом… А ты отвлекай этих… мещан…