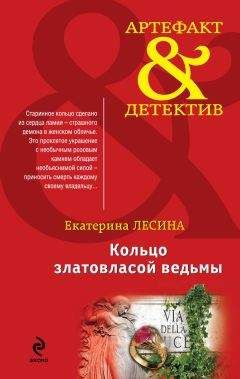Она вообще по делу пришла.
– Можно с тобой поговорить?
– Говори.
– Наедине.
Приподнятая бровь: мол, какое неожиданное предложение! Поцелуй в смуглую щеку Эльвиры, на которой полыхал кирпичного цвета румянец. И рука его по-хозяйски легла на Викины плечи.
– Если ты собираешься извиниться, я готов, – доверчиво прошептал Серега ей на ухо. – А если глаза мне выцарапать, то лучше не надо…
– Прекрати паясничать, пожалуйста.
Он увлекал Вику в глубь парка, и в голову ей лезли совершенно дикие мысли о густых кустах и коварных соблазнителях. А у нее в комнате, между прочим, посторонний труп!
– Дело в том… – Вика глубоко вдохнула. – Кажется, твоя сестра умерла. У меня в комнате.
Серега хмыкнул и ответил:
– С нее станется.
– Я серьезно! Она… она там лежит! На ковре! И не шевелится.
Не верит. Ну, если он людям врет, это еще не значит, что и Вика такая же! Она – нормальный человек, без склонности к фантазированию.
– Если не веришь, то… пошли.
– К тебе?
– Ко мне.
– Смотреть на труп?
– Смотреть, – согласилась Вика, подумав, что после осмотра ему придется что-то сделать.
– Так бы и сказала, что лучше сразу к тебе.
Она и сказала. Другое дело, что каждый понимает сказанное в меру своей распущенности. А вот Эльвиру «забыли» в парке.
Ну и леший с ней.
К чести Сереги, увидев тело, он не растерялся, отпустил, наконец, Вику, велев ей:
– Стой на месте и ничего не трогай.
Она и не собиралась.
Прислонилась к косяку, сунула дрожащие руки под мышки и отвернулась, чтобы не видеть тело. Серега же, перевернув сестру на спину, пощупал ее шею. Тер ее руки, заглядывал в глаза, будто надеялся уловить признаки жизни. Но Вика точно знала – Светлана мертва.
Серега вызвал «Скорую».
И полицию.
А полицию зачем? Крови нет… если крови нет, то… это же не убийство? Не хватало еще, чтобы в Викиной комнате убийство случилось…
– Значит, так, радость моя. Мы пришли сюда вместе и увидели Светлану. Ясно?
– Зачем пришли?
– Да какая разница… фотографии смотреть. Музыку слушать. В морской бой играть! Это детали, главное, одна ты здесь не появлялась.
– П-почему?
– На всякий случай.
Да. Наверное. Странно, конечно, но…
– Викуша, – Серега взял за руку. – Светка была здоровая, как лошадь. И эта внезапная смерть выглядит крайне подозрительно. Поэтому лучше, если все будут думать, что мы с тобой не расставались… хотя, нет, Эльвира нас заложит. Мы расставались. Ненадолго. Ты куришь?
– Нет.
– Плохо. Ты отошла… скажем, показалось, что тебя маман зовет. В кусты приперло… в общем, неважно. Главное, что сюда ты поднялась только сейчас и в моем сопровождении.
…жизнь Туфании – черно-белая. Ночь и день перемешались, сплелись воедино – как их разделить?
Никак.
Арриго появляется, приносит цветы, сыплет ей под ноги монеты, укрывает плечи драгоценными тканями, шепчет слова, от которых сердце ее тает. И не сердце это – глины кусок в умелых руках.
– Птичка моя певчая. – Его ладони смуглы, а в глазах живет синее яркое небо. – Солнце мое… смотрю и насмотреться не способен. Дышу – и не надышусь.
Лжец. Лжец, как разум ее твердит… только голос его не слышен за стуком сердца.
Уходит Арриго, и ночь наступает. Нет для Туфании покоя. Мысли ее терзают, мрачные, что эта разлука – навсегда, что не вернется он, и останется тогда вечная непроглядная ночь души.
Плакать себе Туфания не позволяет. И ревность глухую душит. Успокаивается к утру, унимает сердечную боль, но вот Арриго возвращается вновь и бередит ее изорванное сердце.
– Скажи, – спросил он однажды, – если бы я позвал тебя, пошла бы со мной?
– Хоть на край мира.
– Я не смогу на тебе жениться, радость моя, – Арриго сел на пол и, взяв руки Туфании, поцелуями покрывал ее пальцы. – Ты же понимаешь, что не могу…
Пальцы дрожали. Слезы готовы были поползти по ее щекам.
– В моей жизни было множество женщин, – положив голову ей на колени, Арриго закрыл глаза. – Но я не помню их лиц. Они клялись мне в любви, и я принимал их клятвы, сам же оставался холоден… я никому прежде не рассказывал о той, которая…
Ревность за́стила глаза, но Туфания велела себе молчать. Слушать: никогда прежде Арриго не говорил о себе. Никогда не доверял ей настолько, чтобы приоткрыть завесу собственной жизни.
…Он был старшим сыном; потом, когда по благословенной Италии прошла чума, безглазая женщина во вдовьем черном наряде, стал единственным, горячо любимым. Матушка его, женщина весьма набожная, строгого характера, который иные называли вздорным, отличалась редкой суровостью ко всем – к слугам ли, к домашним ли, и лишь к Арриго она была не просто добра – всепрощающа. Детские проказы сына вызывали у нее умиление, его норов – гордость, поскольку, являясь потомком рода древнего и знатного, не уступающего благородством крови королевскому, Арриго должен был проявлять куда больший характер, нежели его сверстники. В глазах дорогой матушки Арриго представлял собою воплощение всех мыслимых и немыслимых достоинств. Умен, пусть и дерзок, но сугубо в силу горячей крови. Силен. Ловок. Красив. Обходителен… какая мать не возгордится, имея подобного сына?
Отец же, лишенный этих женских иллюзий, не уставал повторять, что Арриго не хватает смирения и сердечности, но слова его казались Арриго пустыми.
Зачем ему сердце? Пусть будет оно холодным. Пусть будет подобно камню, потому что только так способен он достигнуть многого, оправдывая надежды матери…
…Впрочем, не о них желал поведать Арриго, но о женщинах. Их было множество вокруг, и если ребенком он видел в женщинах лишь помеху: вечно они вставали на пути молодого господина с нравоучениями и слезами, то, подрастая, Арриго учился глядеть на них иначе.
Он стал замечать изысканную красоту, скрытую в каждой. Смуглая ли кожа, темные ли волосы, которые расчесывали и натирали оливковым маслом, таинственный ли блеск глаз… в любой из дочерей Евы было нечто привлекательное, такое, чему Арриго не способен был сопротивляться.
О нет, он никогда не позволял себе использовать силу, хотя многие его товарищи по играм и хвастались подобными подвигами, не видя в них ничего постыдного. По праву рождения, по праву благородной крови, женщины принадлежали им.
Во всяком случае, простолюдинки.
Арриго их не осуждал, но… сила ломала. Ему же нравилось дарить любовь. Он выплетал из слов сети обещаний, возводил призрачные замки, туманил взоры и разум, заставляя каждую свою случайную – а иных и не встречалось – возлюбленную становиться еще более красивой.
Впрочем, заполучив женщину в постель, он быстро терял к ней интерес.
Они же, глупые создания, не желали его отпускать.
Лили слезы. Умоляли… клялись душой, сердцем… подбрасывали цветы и платки, вымоченные кровью. Бегали к колдуньям…
Арриго не желал им боли. И удивлялся, слыша проклятья в свой адрес. Неужели было бы лучше действовать силой? Неужели им, странным созданиям, не достаточно тех минут радости, которые у них были? К чему желать невозможного?
Матушка, которая до поры до времени оставалась безразличной к происходящему в доме, все же как-то решилась поговорить с сыном.
– Я знаю, – сказала она ласково, – что ты, как твой отец, и дед, и прадед, и прочие мужчины нашего рода, отличаешься горячей кровью…
…матушка гордилась и этим качеством сына, хоть и вредило оно домашнему хозяйству куда сильнее, нежели вздорный нрав Арриго.
– …и я не смею требовать от тебя – обуздать свою натуру, но… оглянись. Ты привнес в этот дом раздоры. Служанки только и делают, что плачут и ссорятся. Они больше думают о том, кто окажется в твоей постели, нежели о собственном долге.
– Простите, матушка.
Он по-своему любил ее, пожалуй, только ее, единственную из женщин, искренне и от души.
– Из-за тебя они разрисовывают лица, словно уличные девки, мажутся ароматными маслами, обливаются духами…
Матушка поморщилась: некоторые особы доходили до того, что нагло пользовались ее собственными притираниями. Она уже выгнала с позором трех.
– Вчера я нашла под подушкой метелку из вороньих перьев, куриную лапу и заячий хвост. – Матушка осенила себя крестным знамением. Как и положено благочестивой донне, она знала, что Господь Всеблагой защитит ее от диавольских происков, однако же, будучи женщиной, испытывала естественный страх.
– Я выясню, кто это сделал, и…
– Ты перестанешь искать любовниц в этом доме, – строго сказала матушка. – Они успокоятся, когда поймут, что ни одна из них, сколь бы ни старалась, не займет место в твоей постели и в твоем сердце. Пока же ты даришь свое внимание всем, каждая живет надеждой, что именно она станет для тебя единственной.