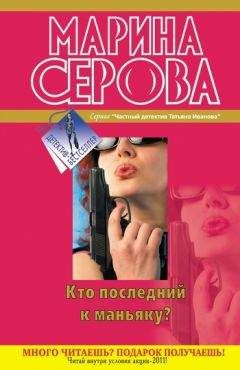Он провел рукой по лицу, как бы стирая исказившую его гримасу боли. Когда он посмотрел мне в глаза, взгляд вновь стал твердым, проникающим.
– Родион Афанасьевич, – спросила я, – а как вы жили год назад?
– Это был еще не я, – уверенно сказал он. – Не знаю, понимаете ли вы меня… Мне сейчас кажется, год назад я еще не жил. Я боролся, я дрался, сражался, я побеждал и миловал своих врагов, я проигрывал, истекал кровью и вставал с колен. Я нарожал детей и дождался от них внуков… Но это был не я… Не я сегодняшний. Это был какой-то другой Родион… С Ирэн я нашел себя. Вы, конечно, знаете мой жизненный путь. Я всегда побеждал других. Я всегда добивался своего. Лучшая фирма в Тарасове… Лучшие дома… Лучшие магазины… У Евстафьева все и всегда – лучшее. К этому у нас в Тарасове привыкли…
Он наклонился над столом, и его глаза, остро глядящие на меня из-под густых бровей, оказались совсем рядом с моими. Он почему-то оглянулся по сторонам, хотя рядом с нами все столики были свободны, народу в зале ресторана было совсем не много.
– Знаете, сколько у меня денег?.. – спросил он приглушенным голосом. – Я сам этого не знаю. Я не могу их сосчитать. Не успеваю. Они растут с каждым днем. Деньги рождают деньги, а те рождают новые деньги. Капитал разрастается, как взрыв атомной бомбы. У меня миллионы… долларов. Общий капитал моих фирм больше годового бюджета Тарасовской области. Но это все не я…
Он перешел на шепот:
– Это мои деньги… Деньги сами побеждают моих противников. Деньги победили меня… Я ничего не хотел, кроме денег, ни к чему не стремился, только к деньгам, к новым и новым миллионам… И я не мог увидеть себя со стороны. Мне помогла это сделать Ирэн. Я родился год назад. Я научился хотеть. Иметь свои личные желания. Я научился чувствовать себя человеком, а не владельцем капитала. Меня научила этому Ирэн. Теперь не я работаю на свои деньги, а деньги работают на меня… Так было еще вчера.
Он закрыл глаза и устало откинулся на высокую спинку стула.
– И вот ее нет. И нет меня. Нет ничего. Мир пуст. У меня осталось одно желание – найти этого… этого подонка, этого зверя… – он сжал зубы, челюстные мышцы резко обозначились на его щеках, – …который забрал ее у меня. Я хочу, чтобы он ответил мне – зачем он это сделал? Зачем ему Ирэн? Почему он не дал ей жить дальше?
– Родион Афанасьевич, – прервала я его трудный монолог, – а вы не знаете, почему ее звали Ирэн? Почему не Ирина?
– Ее зовут – «малышка»… «ласточка»… Я называю ее – «моя любовь», «моя жизнь», «счастье мое», «девочка моя»… Я никогда не называю ее Ирэн… Знаете, Таня… Мы ездили с ней на Багамы, были в Париже…
– На Кубе… – вставила я.
Он посмотрел на меня и как бы вспомнил о моем существовании. Я поняла, что он не мне все это рассказывал, а самому себе. Все это время он разговаривал только с самим собой.
Теперь он как бы увидел меня. Впервые за весь наш недолгий вечер.
– Вы быстро работаете, – сказал он с некоторым уважением. – Довольно многое вам, вероятно, уже известно. Не знаю, нужно ли вам то, что я рассказывал… Но это нужно мне. Я надеюсь, вы меня поймете…
Не знаю, что нашло на меня в этот момент. Я почувствовала, как мне жаль этого сильного большого человека, смертельно раненного судьбой. Я не могла смотреть ему в глаза. Я чувствовала его боль. Я чувствовала боль Ирэн, как будто это меня сейчас резали окровавленной бритвой, кромсая мои щеки, груди и живот.
Наверное, Ирэн была для него больше, чем подруга, чем жена, чем возлюбленная… Она заменяла ему весь мир, всех женщин, все… И что могла сейчас я, одна из миллионов тех, чьим символом для него была Ирэн? Я смогла ее понять, но я была другой, я была собой… Так же, как и Ирэн. Она была женщиной, значит – единственной.
Мне захотелось забыть, что я женщина. Я убеждала себя, что я всего лишь сыщик, существо среднего рода, без пола, без чувств, без эмоций. Это была защитная реакция перед стеной боли, готовой обрушиться на меня.
«Я не Ирэн, я – Таня Иванова, Ведьма… Я – стерва, презирающая мужчин, считающая их существами второго сорта, годными только на то, чтобы приносить нам, женщинам, удовольствие в постели. Я не хочу брать на себя эту чужую боль, я не хочу, не хочу, не хочу…»
– Родион Афанасьевич, а не мог кто-нибудь из вашей семьи… – Я ухватилась за свои профессиональные обязанности как за соломинку, чтобы вырваться из этого засасывающего водоворота чужого страдания. – …Не мог кто-то из ваших близких пойти на убийство Ирэн? Ведь о вашей связи с ней, конечно, было хорошо известно всем в вашей семье. Ведь об этом многие в городе знают. Ревность иногда толкает людей…
Я не договорила, так как подумала:
«Боже! Какую пошлятину я несу! Не хватало только вспомнить об Отелло».
Евстафьев усмехнулся, кривая улыбка застряла на его лице.
– Моя семья… Дети… Жена… Внуки… Племянники со своими детьми, двоюродные братья, троюродные сестры, вся эта мелкая сволочь, называющая себя моими родственниками, а сама выжидающая случая залезть ко мне в карман. Вы об этих? О них? Разве эти люди могут кого-то убить? Это просто мелкие твари, гнус, сосущий мою кровь. Им глубоко наплевать на меня, Родиона Евстафьева, им нужны только мои деньги. Потеряй я сейчас все – они выгнали бы меня из дома, купленного на мои же деньги. Они озабочены только одним – выкачать из меня как можно больше. Все! Деньги, деньги, деньги, деньги!.. Они любят только деньги. Они питаются деньгами и живут ради денег.
– Извините, – продолжала я настаивать на этой версии. Надо же расправиться с ней окончательно, чтобы потом не возвращаться. – Вы тратили на Ирэн огромные суммы. Этот факт никого не мог бы раздражать настолько, что этот человек решился бы Ирэн убрать?
– Этот факт раздражал больше всех саму Ирэн, – возразил Евстафьев. – Мы даже ссорились с ней из-за этого. Она ненавидела мои деньги. Они были для нее как клетка, как забор, отгораживающий ее от меня… Она сказала как-то, что, если бы я не был столь богат, она заставила бы меня бросить семью и мы были бы всегда вместе. Но мои деньги – это был ее враг. Главный враг. Единственное, что она всегда просила ей купить, – эти странные картины, которых словно не существует в реальности. Ирэн говорила, что они напоминают ей ее жизнь… Я готов был покупать для нее подлинники. Но она сказала – нет, подлинников не надо… Только эти призрачные копии.
Он замолчал. Минуты две мы с ним сидели молча, думая каждый о своем и разглядывая поблескивающее в бокалах терпкое вино.
– Я сам теперь кажусь себе призраком, – сказал он наконец. – Я снова ничего не хочу, кроме одного – чтобы она была жива, была рядом со мной…
Я поняла, что должна уходить. Да и вранье это, что, разделив с кем-то страдание, его легче перенести. Еще одна иллюзия, придуманная людьми для того, чтобы было на что надеяться. Я ничем не могу помочь Евстафьеву… Найду я убийцу, не найду, ему не станет от этого легче. Буду я его слушать сейчас, не буду – он все равно будет рассказывать. И если некому будет слушать, то самому себе расскажет, пустоте, которая его окружает.
И я сделала еще одну вещь, которую я не могу понять. Она получилась как-то сама собой, объяснить этого я не смогу. Я протянула правую руку и провела пальцами по его щеке. Он сделал еле заметное движение, словно попытался прижаться к моей руке, как испуганный малыш прижимается к матери… Но это длилось мгновение, не больше. И он вновь ушел от меня в пространство, где Ирэн была еще жива, в свои воспоминания, в свою боль.
Я встала из-за столика и вышла из зала, кивнув телохранителю, который остался по-прежнему неподвижен, словно сфинкс.
Вряд ли Евстафьев заметил, что я ушла и оставила его одного. Он и так был – один…
А я… Я сделала для себя вывод. Евстафьев и люди из его окружения не имеют отношения к убийству Ирэн Балацкой… Моя интуиция настаивала на этом, готовая вступить в драку и с логикой, и со здравым смыслом.
Я приехала домой разбитая, словно то корыто, что так много крови попортило старику из полудетской-полувзрослой пушкинской сказки. Кофе и ванна – больше ни о чем я не могла думать.
Хватит на сегодня с меня убийств, изуродованных трупов, страдающих несчастных мужчин и моего сострадания к ним. Хватит! Сыта по горло.
Хочу в воду, где, как утверждает естественная история, впервые зародилась жизнь. Я верю в это на все сто процентов. Потому что в воде я всегда возрождаюсь к жизни сама, как бы ни была измучена и разбита. Вода – колыбель жизни. Теплая, ласковая вода, в которой можно расслабиться и повиснуть в состоянии какой-то удивительной невесомости и нереальности…
Я собиралась провести в ванне… ну никак не меньше часа. Поэтому, сколь ни была я уставшей, я нашла в себе силы сварить кофе. Затем я взяла в спальне купленную сегодня утром удивительную глиняную вазу и перенесла ее в ванную комнату, поставила на умывальник. На белом блестящем фаянсовом фоне умывальника она выглядела еще эффектнее, чем прежде.