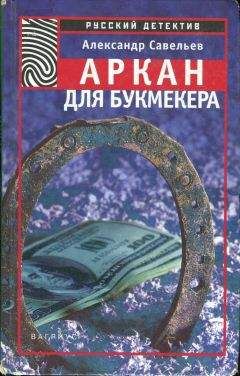В лагерях жилось трудно: голод, каторжный труд, резня, произвол администрации. Множество мастей — сообществ заключенных, каждое со своей верой, осложняло и без того нелегкую жизнь.
Большинство заключенных стремилось в воровские зоны, места заключения, где верховодили воры. И хотя их там половинили — облагали данью и заставляли подчиняться суровым воровским законам, все внутренние конфликты воры разрешали в строгом соответствии с неписаными лагерными правилами, а значит, по справедливости. Там не было беспредела, крысятничества и неоправданного мордобоя.
С наставниками Синебродову повезло. Они оказались благородными жуликами, и это не выдумка Шейнина: такие воры-романтики еще встречались в то время. Попирая нормы общепринятой морали, они не стали нравственными уродами, не превратились в животных, а остались нормальными людьми с нормальными человеческими чувствами. Они были тверды в убеждениях и могли пострадать за идею, к тому же остры на язык, неплохо воспитаны, понимали толк в пище и умели со вкусом одеться. Володька боготворил их, но это обожание не было холуйским, унизительным пресмыканием слабого перед сильным. Он хотел походить на этих людей и готов был разбиться за них в лепешку.
В придачу к хорошим мозгам у Володьки оказались еще и проворные руки. Через неделю он уже обыгрывал в карты полкамеры, пуская в ход шулерские приемы, блестяще усвоенные от своих наставников. Тогда же он и получил свою кличку — Филин, за острое зрение.
Как всякий пацан, он не думал о завтрашнем дне, хотя ничего хорошего будущее ему не сулило. До восемнадцати оставалось еще полгода. Значит — в колонию для малолетних, а там бесчинствовали активисты — масть, несовместимая с воровской.
«Что будет, то будет», — успокаивал себя Володька, не зная, как это выглядит в жизни. Но вскоре ему довелось это узнать.
Когда камеру повели мыться, Яша Коценый из Гусь-Хрустального, заглянув в предбаннике в щель, увидел среди моющихся знакомые морды. Это были польские воры, кстати, не имеющие никакого отношения к Польше. Они бесчинствовали в лагерях, особенно жестоко в Воркуте, Норильске, на Колыме, по уши плавали в воровской крови. Воры отвечали им взаимностью.
— Блатные, транзит польских воров!
В предбаннике будто взорвалась пятисотваттная лампа. Мужики напряглись. Воры кинулись к щели в двери.
— Ну-ка, дай глянуть.
— Кто там?
— Барин. Чита. Стас Шестипалый. Я их по Норильску знаю.
Появились заточки, сделанные из супинаторов, заостренные штыри, обломки лезвий. Навалились на дверь в банный зал. Она затрещала.
— Шевелитесь, ворики. Шевелитесь, пока менты не налетели. Эти суки пустые не ездят. У каждого сидор с награбленными тряпками и хорошие бабки.
У Володьки засосало под ложечкой. Это уже не дворовая драка. Здесь пахнет большой кровью. Он встал рядом с Сибиряком и Шнобелем, готовый стоять до конца. Было страшно, но гораздо страшней, если кто-то это заметит.
Сибиряк подозвал одного из заключенных и шепотом сказал ему:
— Присмотри за пацаном. В таких передрягах он еще не был. Чтоб ни один волос не упал. Головой отвечаешь.
Володька это услышал и едва не подпрыгнул от счастья. Что там нож в бок? За Сибиряка он хоть сейчас на плаху.
— Пошевеливайтесь, ребятки. Ты и ты, двое амбалов. Давайте вместе. Раз, два. Раз, два. Ты, Вельветовый! Чего хавло раскрыл… Ну-ка, навались. Подсоби мужикам. Видишь, надрываются люди.
Железная дверь трещала, но держалась.
— Тряхнуть их не мешало бы.
— Особо губы-то не раскатывай. Барин с Шахназаром в Красноярске на пересылке вдвоем от семерых отмахивались. У каждого по нескольку четвертаков срока. Терять нечего.
— То — в Красноярске, а здесь они голые. Одним тазиком на троих шибко не разгуляешься.
Дверь подалась: вот-вот слетит с петель.
— А ну по углам! Лицом к стене! Руки за спину! По карцеру соскучились?!
В предбанник вломились надзиратели, заработали сапогами и кулачищами.
— Полегче, ты. Полегче! Руку вывернешь.
— Поговори у меня. Как фамилия? После бани будет на тебя рапорт. И на тебя тоже. И на тебя. По десять суток вам обеспечено.
На этот раз пронесло. Володька даже не угодил в карцер. После обеда в камеру подбросили новеньких. Те, кто уже знал Филина, в карты с ним не садились. Вновь прибывшие клюнули. К четырем, к вечерней поверке, он двоих обыграл. Хороший костюм. Рубашки. Несколько тысяч рублей. Очень кстати. На дежурство заступал прикормленный надзиратель. За деньги и приличные тряпки таскал чай, кодеин, желудочные капли на опии. Поверка прошла, но на дежурство заступил другой надзиратель. Шнобель принялся его уговаривать. Безрезультатно. Хотя не совсем: шепнул, что в камере дятел.
На следующий день утром после завтрака, как обычно, кормушка откинулась — в квадратном окошке появилось лицо медсестры.
— Больные есть? Записываться к врачу кто будет?
— Сестричка, от сухости ничего нет?
— Могу предложить диету: суток пятнадцать в карцере. Подходит?
— Меня к кожнику запишите.
— Что у вас?
— Кожи не хватает. Когда глаза закрываю — очко открывается. Соседи по нарам обижаются.
— Отойдите от окошка. Мешаете работать.
— Вы сегодня — само очарование. Эта прическа вам очень к лицу. Бессонница меня замучила. Третью ночь не могу уснуть. Не дадите чего-нибудь из снотворного? Совсем извелся.
— Читайте на ночь правила внутреннего распорядка.
— Запишите меня к стоматологу.
— Как фамилия? Записала. Еще есть кто?
Филин подсел к Шнобелю.
— Мужик этот что-то зачастил к зубнику. Раза по три на неделе записывается. А сушки хрумкает, аж скулы трещат.
— Сибиряк, слышишь, что пацан говорит? Фраерок этот зачастил в больничку.
— Может быть, бегает сеансу набраться?
— Не похож вроде на задроченного. Надо бы пощупать.
— Желающих к врачу больше нет? Потом не стучите. Лечить будет уже корпусной.
Кормушка закрылась.
— Сибиряк, поговори с мужиком. Меня тоже что-то сомнение взяло.
— Поставь кого-нибудь к волчку.
Шнобель шепнул что-то на ухо одному из заключенных. Тот подошел к двери и затылком загородил глазок, через который надзиратель наблюдает за происходящим в камере.
— Парень, ты откуда? — поинтересовался Сибиряк у парня, вызвавшего подозрения. — Не из Лопасни? Морда у тебя уж очень знакомая.
— Нет. Я из Лосинки. А что?
— Сколько дали?
— Трешник.
— За что?
— Нахулиганничал по пьянке.
— В карты играешь?
— На интерес — нет.
— Давай тогда в шашки. Без интереса. Ты всех в камере чешешь. Убьем время, а заодно, может, чему поучусь у тебя. Браток, сваргань-ка нам кипяточку по кружечке. Сахару тебе сколько?
— Три куска.
— И сухариков не забудь. Какие больше любишь, ванильные или с изюмом?
— Без разницы.
— Ну, ходи.
Шнобель зашел парню за спину, держа наготове скрученное полотенце.
— А ты здорово играешь. Учился в Доме пионеров?
— He-а. У меня брательник перворазрядник.
— Сухарики не очень твердые.
— Нормальные. Ваш ход. Есть обязательно. За фук не берем. Как я вас? Еще ход, и у меня дамка.
— Сухариков еще подсыпать? Тебе они, видать, пришлись по вкусу.
— Нормально. Не откажусь.
— А как же зубы? Болеть перестали?
Парень понял, что дал маху.
— А чего зубы? Зубы как зубы. Были две дырки — заделал. Сегодня пойду третью пломбу ставить.
— Ну-ка, открой пасть.
— Чего вы, в самом деле?
— Шнобель, помоги ему.
Шнобель ловко накинул полотенце парню на шею и перекрутил его.
— Сухарики хрум-хрум, а в… ме-ке-ке?
— Да честно я говорю. Зачем мне без надобности к зубнику бегать?
— Во-во. И я так же подумал. Зубы у тебя, как у молодого жеребца. Сахару три куска, а как платить — жопа узка? К кому бегаешь?
— Да говорю же я.
— Шнобель, освежи ему память.
Шнобель перекрутил полотенце сильней. Парень захрипел.
— К куму. Он обещал оставить при тюрьме в обслуге.
— Чего ему надо знать?
— Как идет подогрев к «крытникам» и у кого общаковые деньги.
— Губа у него не дура. На надзирателя ты стукнул?
— Я.
— Чего ему еще болтал?
— Больше ничего. Клянусь.
— Дятлы еще в камере есть?
— Нет.
— А рядом в камерах?
— Не знаю.
— А ну, отойди от глазка.
В двери загромыхал ключ.
— Начальник, дай бумагу и ручку. Буду кассацию писать.
— Завтра на утренней поверке. Еще раз увижу у глазка, выдерну искать пятый угол.
Два дня спустя Филина вызвали с вещами. Других вариантов не было — на этап. Прощай, спокойная сытая жизнь в камере. Прощайте, Сибиряк и Шнобель. Впереди — неизвестность: новые люди, новые места заключения. Воры снабдили всем необходимым на первое время: куревом, сахаром, сухарями, деньжатами, в чистую холстинку завернули шмоток сала. Прощаясь, Филин едва не заплакал.