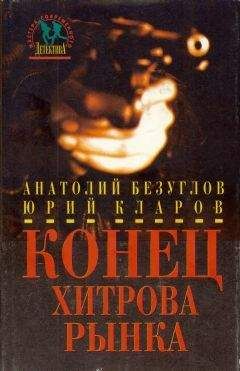И сам я измучился с этим делом, и бухгалтеров-ревизоров замучил, но все же кончик нашёл. Им оказалась книга приказов. На мельнице не считались с трудовым законодательством: люди беспрерывно работали сверхурочно. Какая здесь связь? Прямая. Сверхурочные работы свидетельствовали не только о нарушении прав трудящихся, но и о том, что мельница перерабатывает намного больше зёрна, чем указано в документах. Отсюда логический вывод: мука расхищается. Решить проблему, откуда поступает излишнее зерно, было уже сравнительно несложно. Действуя методом исключения, я остановился на заготовительном пункте. И точно. Мы там обнаружили в излишке несколько десятков тонн пшеницы. Нам объяснили, что излишки образовались в результате ошибочного завышения влажности и сортности зёрна, поступающего от колхозов. Что ж, такое тоже бывает.
Но когда было доказано, что излишки систематически перебрасываются без документов на мельницу, положение жуликов осложнилось, и они начали один за другим капитулировать. Фирма затрещала по всем швам. Но «пшеничного короля» это не коснулось, он по-прежнему оставался для меня Иксом. Дело в том, что подавляющая часть служащих подпольной фирмы даже не подозревала, на кого она работает. «Пшеничный король» так поставил дело, что о нем знали только три человека – его ближайшие помощники, они были как бы кнопками сложной машины, с помощью которых «король» управлял всем и вся. И все же Икс всего не предусмотрел.
«Пшеничный король» был работягой. Он работал без отдыха. В три смены. И очень ценил своё время, считая, что каждая минута должна оборачиваться рублём. Поэтому, продавая муку через своих контрагентов, он не считал нужным фантазировать и придумывать фамилии так называемых индивидуальных помольщиков. Зачем бесплатно тратить драгоценное время? И глава фирмы просто брал телефонную книгу и переписывал оттуда фамилии в квитанции. Таким образом, судя по корешкам, постоянными клиентами мельницы были несколько профессоров, среди них один лауреат Государственной премии, балерина, два генерала в отставке, умерший пять лет назад начальник стройки и я… За мной числилось не более и не менее, как двести килограммов зёрна.
Так Икс превратился в Рулева, Леонида Борисовича Рулева, приёмщика мельницы Э 68, моего деятельного помощника на общественных началах. При знакомстве мы никаких любезностей друг другу не говорили, но я был все-таки польщён: как-никак, а с миллионером я познакомился впервые.
Рулеву к тому времени было лет пятьдесят восемь. Но «пшеничный король» выглядел много старше. Может быть, этому впечатлению способствовала неопрятная седая щетина – я его ни разу не видел бритым – или небрежность в одежде – не знаю. А старик был симпатичный, располагающий к себе. Обычно такими художники изображают пенсионеров, играющих на бульваре в шахматы: открытое, бесхитростное лицо, лёгкая улыбка умудрённого жизнью человека и васильки вместо глаз. С глазами ему повезло. Даже на меня действовала эта синь, которая излучала благодушие и доброжелательство. Человека с такими глазами нельзя было обидеть. Его глаза призывали к любви, справедливости и взаимопониманию. Вы, конечно, ожидаете, что сейчас я скажу, будто в них временами появлялся холодный или стальной блеск. Увы, чего не было, того не было. Ничего хищнического и отталкивающего. Держался он молодцом. Когда мы нашли у него в огороде деньги, облигации трехпроцентного займа и различные драгоценности на общую сумму в сто пятьдесят семь тысяч рублей, он даже бровью не повёл. Помог нам все пересчитать, раздобыл бечёвку, чтобы перевязать пачки, и вообще всем своим поведением показывал, что мы в нем не ошиблись и этот досадный эпизод совершенно не должен сказаться на наших отношениях.
Видимо, у него все-таки был философский склад ума и арест им воспринимался как неизбежный коммерческий риск, который присутствует во всех финансовых операциях: сегодня ты бога держишь за бороду, а завтра бог тебя держит. И тут уже ничего не поделаешь. Фортуна!
У меня с ним установились почти приятельские отношения, которые особенно укрепились после удачного обыска. Прочитав же заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, он проникся ко мне отцовским чувством, и уже до самого конца следствия мы с ним работали рука об руку. Нет, кроме шуток, он мне действительно помог. У него была великолепная память и удивительная способность мгновенно ориентироваться в сложнейших бухгалтерских документах. А в отсутствии добросовестности я его упрекнуть не мог. «Пшеничный король» трезво оценил ситуацию, взвесил на весах все материалы обвинения и сделал соответствующие выводы. Он знал, что единственный шанс сохранить жизнь – это быть честным до конца. Честность стала для него товаром, а правосудие – контрагентом. Он пытался обменять честность на жизнь. И, доброжелательно улыбаясь своим сообщникам, он напоминал им различные эпизоды шести– и восьмилетней давности, которые они бы предпочли забыть. Он топил соучастников спокойно, методично, оперируя цифрами и ссылаясь на документы. Делал он это беззлобно, с детской наивной уверенностью, что самое ценное в мире – его жизнь и для её спасения служащие «фирмы» могут кое-чем и пожертвовать. Он даже обижался, если кто-либо пытался увильнуть, скрыть ту или иную махинацию. Его лицо розовело, и он сдержанно говорил: «Ну зачем же так? Нехорошо. Я был о вас лучшего мнения». Он жаждал верить в людей, в их порядочность, в их любовь к нему, к главе «фирмы»…
Следствие продолжалось свыше полугода. Мне помогали два следователя. Но ни один из них не мог сравниться с Рулевым, ревностно отстаивающим интересы истины. Мы с ним встречались почти ежедневно и говорили о многом, не имеющем прямого отношения к делу. Он охотно рассказывал о себе, о своей жизни. И я невольно поражался, как все его мысли и чувства, словно стрелки часов, вращались вокруг одного стерженька – денег. И все же, что он из породы миллионеров, я понял только после беседы с его старшей дочерью…
Я её вызвал из Одессы, где она жила последние годы. Жалкая была женщина. Знаете, существуют неудачники, которым всегда и во всем не везёт. Она была из таких. Одно несчастье за другим. И бытовые неурядицы, и разлад в семье, и неприятности на работе, и смерть любимой дочери. Все это надломило её, но не лишило способности переживать за других, особенно за отца. О его аресте она слышала, но не знала, за что он привлекается. И на допросе она, естественно, пыталась растопить ледяное сердце формалиста-следователя, который из-за какой-то чепухи совсем затаскал несчастного человека. Любопытно, что, перечисляя мытарства бедного старика, она особый упор делала на его… безденежье.
«Сколько у отца с матерью было из-за этого ссор, – говорила она. – Даже вспоминать не хочется. Всю жизнь приходилось считать каждую копейку. Правда, сейчас я ему помогаю…» «Помогаете?» – не удержался я. «Конечно. Каждый месяц перевожу двадцать – тридцать рублей. Но что он может сделать на эти деньги? Ведь у него от второй жены двое детей. Попробуйте-ка их одеть, обуть, накормить. Если бы вы видели, как они живут! В дом войти страшно: одни голые стены. Нищета, запустение. А как папа одет? Третий год носит одну и ту же телогрейку. Я ему ко дню рождения прислала материал на костюм – продал. Детям, говорит, лучше одежду куплю. А ведь мне эти деньги дорого достаются. Но что с ним поделаешь? Таков уж человек. Ему для себя ничего не надо…»
Много она про отца говорила, и все в том же духе. А я слушал и думал: как «пшеничный король» мог ей в глаза смотреть? И ещё я думал: хорошо, что она не может заглянуть в сейф, где лежат награбленные Рулевым сто пятьдесят тысяч рублей. Если бы она узнала… Но она ничего не узнала. Я ей так и не сказал, в чем её отец обвиняется. Не смог. Ведь это было б все равно, что в душу плюнуть. Надеюсь, что и сейчас она всего не знает…
А на следующий день я навестил «пшеничного короля» в тюрьме. Передал ему привет от дочери и вручил кулёк с абрикосами. Думал – смутится, нет.
– Правда? – спрашиваю.
– Правда.
– Почему же вы её обирали?
– Я её, – говорит, – не обирал. Она получает сто двадцать рублей, а я семьдесят. Мне действительно не хватало зарплаты: семья-то из четырех человек. А их трое, да ещё месяц назад Верочка умерла, значит, двое осталось. Вдвоём на девяносто рублей очень даже роскошно прожить можно. Ведь я ей отец, не кто-нибудь…
– Но вы же были миллионером?
– То к ней никакого отношения не имело. И денег тех трогать я не мог. На виду жил, как на ладошке. Лишняя трата – тюремная решётка. Жена-покойница как просилась перед смертью к себе на родину, в Вологду! Жалко её было, а не повёз, чтобы у соседей подозрений не возбуждать. Так и не повидала свою Вологду… Чего же мне было из-за дочки гибнуть?
– Какого же черта, – говорю, – вам нужны были эти деньги?! Рубль лишний истратить боялись, а копили. Зачем? Во имя чего?