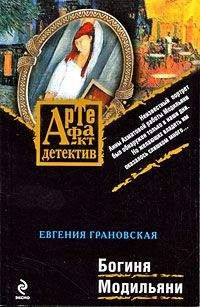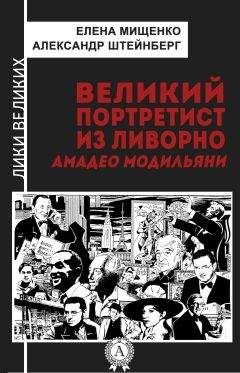– Вы так не любите детей?
– Дело в другом. Просто у гениев не должно быть детей. «Сын Микеланджело…» Вы слышите, насколько смешно и пошло это звучит?
– Посмотрим, что вы скажете, когда у вас будут собственные дети, – сказала Анна. – Хотя… Быть может, вы не считаете себя гением?
– Когда как, – с улыбкой ответил Амедео. – Впрочем, и у гениев бывают родственники. Я, кажется, вам еще не говорил, что одним из моих предков был великий Спиноза?
– Нет. А в какой вы связи?
– Точно не знаю. Я в подробности никогда не вдавался. Я родом из Ливорно, мой отец еврей. А фамилия наша происходит от маленького села к югу от Рима. Отец когда-то торговал углем и дровами, потом владел маклерской конторой. Некоторую сумму денег вложил в серебряные копи на Сардинии.
– Значит, у вас зажиточная семья?
Модильяни выпустил из губ струйку бледно-голубого дыма и покачал головой:
– Увы, нет. Я появился на свет в день, когда к нам явились судебные приставы забирать описанное за долги имущество. По итальянским законам имущество роженицы неприкосновенно. Пока отец отражал натиск приставов, тетки наваливали на кровать рожающей матери все самое ценное в доме.
Анна улыбнулась:
– Забавно!
– Да, – выдохнул Модильяни и вяло улыбнулся. – Однако моя мать посчитала это дурным предзнаменованием.
Некоторое время они курили молча, потом Анна покосилась на художника и задумчиво поинтересовалась:
– Значит, вы не верите в бога?
Модильяни взглянул на нее удивленно:
– Почему вы так решили?
– Вы так убежденно доказывали, что художнику все дозволено…
– Ах, вы об этом. – Модильяни грустно улыбнулся. – Я верю в бога. Но я не верю в ад… для таких, как я.
– Что это значит?
– Ну… – Он пожал плечами. – Бог ведь художник. Мы не знаем, на какие жертвы ему пришлось пойти, чтобы создать этот мир. Так что, думаю, он меня поймет.
– Значит, место всех художников в раю?
– Конечно, – ответил Модильяни так просто, что Анна не нашлась что возразить.
Он швырнул окурок на пол и раздавил его каблуком ботинка.
– Давайте продолжим. Я хочу закончить картину в несколько дней.
Анна докурила папиросу, нагнулась и сунула окурок в пустую баночку из-под растворителя. Затем спокойно сняла платье и приняла прежнюю позу.
Модильяни стал к мольберту. Взглянув на грудь Анны, он сказал:
– Если бы я стал мировым тираном, я бы запретил женщинам скрывать грудь под одеждой.
Анна представила себе, как она прогуливается зимой по Аничкову мосту в чем мать родила, и улыбнулась:
– Тротуары Петербурга были бы уставлены обледенелыми женскими статуями, выполненными в натуральную величину.
Она ожидала, что Модильяни улыбнется шутке, но он, похоже, ее уже не слышал. Погрузившись в работу, итальянец вновь превратился в священнодействующего жреца с пылающими глазами.
Николай стоял посреди комнаты, сунув руки в карманы брюк. Взгляд его раскосых глаз был задумчивым.
– Где ты была? – спросил спокойно он, глядя на Анну из-под сдвинутых бровей.
– Гуляла, – ответила Анна, сбрасывая с узких ступней тесные туфельки.
– Ночью?
– Ты же хотел, чтобы я посмотрела Париж. Вот я и смотрела.
Николай стиснул зубы так, что на худых скулах обозначились желваки.
– Ночные прогулки небезопасны, – сказал он. – В Париже много хулиганов.
– Возможно, – согласилась Анна. – Но, судя по всему, по ночам они предпочитают спать.
Анна легла на диван, закрыла глаза и с наслаждением вытянула гудящие от усталости ноги. Николай подошел и присел на край дивана.
– Ты гуляла с Линьковым? – осведомился он своим обычным спокойным голосом.
– Нет, – ответила она, не открывая глаз.
– Тогда с кем?
– С друзьями. Коля, я умираю от усталости. Давай не будем больше об этом говорить.
Несколько секунд он хмуро разглядывал ее лицо, затем вздохнул:
– Ты права. В следующий раз, когда захочешь прогуляться ночью, скажи мне. Я пойду с тобой.
– И заведешь меня в этнографический музей? – улыбнулась Анна.
Гумилеву вдруг до смерти захотелось ее поцеловать. Он наклонился и припал к ее губам. Он ожидал, что она снова заговорит об усталости, но вместо этого Анна крепко обняла его. Мгновение – и сорванное платье полетело на пол. Вслед за ним полетели брюки и рубашка, их тела переплелись. Анна запрокинула голову и хрипло задышала…
Спустя полчаса они лежали на узком диване, укрывшись пледом, и курили папиросы.
– Анна, ты знаешь, что я предоставляю тебе полную свободу действий, но не стоит этим злоупотреблять. Я волнуюсь, когда по вечерам ты не со мной.
– Да, я знаю. – Она открыла глаза. – Коля…
– Что?
– Я тебя люблю.
Он улыбнулся:
– Неожиданное признание. Я тоже тебя люблю.
С минуту они молчали. Потом Анна заговорила снова:
– Коля?
– Да.
– Ты правда топился из-за меня в Сене?
– Угу.
– А о чем ты думал в тот момент?
– Я думал о том, что ты дура.
– Почему?
– Потому что только дура может отвергнуть такого мужчину, как я.
Анна засмеялась:
– Мне нравится, когда ты дурачишься. А что будет, когда я изменю тебе? Ты меня убьешь?
– Конечно.
– А его?
– Кого – его?
– Ну, того, с кем я тебе изменю.
– Его, пожалуй, не стану.
– Почему?
– Из чувства самосохранения. А вдруг он окажется сильнее меня?
Гумилев засмеялся.
– Дурень! – сказала Анна и улыбнулась. – Нет, а если серьезно?
– А если серьезно, то я перестреляю всех мужчин. Всех, кого только встречу на своем пути.
– За что? – удивилась Анна.
– За то, что они смотрят на тебя, видят тебя, мечтают о тебе. И за то, что каждый из них может стать твоим любовником. Ты ведь знаешь, что я не терплю конкуренции.
Анна провела пальцем по его худой груди.
– Значит, застрелишь?
– Угу.
– Жуть. Меня это пугает.
– Отлично.
– Но мне это нравится! Коля, а может, я сумасшедшая?
– Разумеется. Все женщины сумасшедшие.
– А что ты будешь чувствовать, когда направишь пистолет мне в грудь?
– Этого я еще не знаю, – ответил Гумилев. Подумал и добавил: – Но думаю, ощущение будет захватывающее.
– Пейте, Моди, пейте! Я угощаю!
Линьков хлопнул подвыпившего художника рукою по плечу. Модильяни поморщился.
– Я не хочу, чтобы вы называли меня Моди, – сказал он.
– Плевать я хотел на твое хотение, – проворчал Линьков по-русски. И тут же снова перешел на французский: – Кажется, теперь я имею право называть себя вашим другом. Я купил три ваши картины. Целых три!
– Это правда, – согласился Модильяни. – Зовите меня хоть пигмеем, только покупайте мои картины и впредь. Дьявол, как это приятно – иметь деньги!
– Еще приятнее их тратить, не правда ли? – Линьков засмеялся. – Погодите, Моди, дайте срок! Я еще сделаю вас знаменитым! Кстати, вы когда-нибудь пробовали гашиш?
Модильяни усмехнулся:
– Конечно. Пару раз. Но мне это не нужно.
– Чепуха, – дернул щекой Линьков. – Гашиш нужен всем. А тем более – художникам. Сейчас допьем эту бутылку и поедем в притон.
Модильяни нахмурился, а по его лицу пробежала тень.
– Не думаю, что это хорошая идея.
– Возражения не принимаются! – оборвал его Линьков. – Я угощаю!
– Да, но я…
– Послушайте, Моди, вы хотите меня обидеть?
Модильяни смутился:
– Нет, но…
– А у нас в России нет бóльшего оскорбления, чем отказаться от угощения, преподнесенного от всей души!
– Правда? – Художник выпустил край бокала из темных губ. – Ну… тогда, конечно, я поеду. Но я…
– Отлично! Тогда едем немедленно! Давайте сюда бутылку – я разолью вино!
Часом позже они сидели в притоне араба Ахмета. Модильяни откинулся на расшитые золотой нитью и бисером подушки и прикрыл глаза. Из его приоткрытых губ торчал мундштук. Дымок медленно поднимался кверху из его трепещущих ноздрей.
Линьков сидел рядом. Он не курил, но ловко имитировал курение, бросая острые, внимательные взгляды на Модильяни.
На душе у бывшего поручика было погано. Накануне вечером он имел неприятный разговор с Анной Гумилевой. Линьков был немного нетрезв, а потому – невоздержан на язык. Тонкое кружевное белье женской психики находилось за гранью его понимания, так как до сих пор он в основном имел дело с кокотками мадам Жоли и мадам Бовэ, которые вели себя так, словно у них вообще не было никакой психики.
Скверно просчитав ситуацию, Линьков вздумал признаться Анне в своих чувствах. Он думал, что говорит страстно и красиво, даже сам удивлялся стройности и убедительности своих слов, суть коих сводилась к тому, что Линьков готов отдать полцарства за один лишь благосклонный взгляд Анны.
Выслушав прочувствованный монолог, Анна наградила Линькова суровым взглядом, благосклонности в котором не было вовсе.
– Линьков, – сказала она сухо, – мне кажется, вы слишком много выпили. Трезвый человек, как бы глуп он ни был, не способен нести подобный вздор. Идите и хорошенько выспитесь.