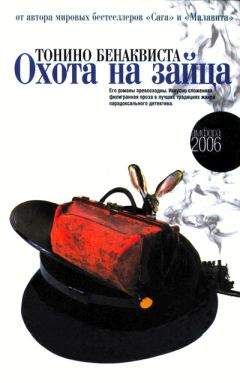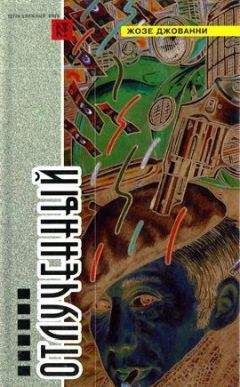— В каком часу прибываем в Рим? — спрашиваю я.
Молодой чернявый парень в сидящей мешком форменной тужурке со значком «Спальных вагонов» на отвороте и в неизменно дурном расположении духа бросает на меня такой раздраженный взгляд, словно отвечает на этот вопрос уже раз в двухтысячный:
— В 10.06, если итальянцы не задержат.
— А такое случается?
Он ухмыляется вместо ответа.
— Должно быть, утомительно работать в ночных поездах, правда? — интересуюсь я.
— Вот когда намотаете по рельсам четыре кругосветки, тогда и поговорим.
Он выходит из купе, пожимая плечами.
Нас пятеро: чета итальянцев-молодоженов, возвращающихся из свадебного путешествия, чета французов-отпускников, которые едут в Рим первый раз в жизни, и я. Мои попутчики очаровательны. Обе пары пытаются общаться между собой с помощью жестов и улыбок и даже предпринимают определенные потуги слепить фразу, которую противоположной стороне всякий раз удается разгадать. Иногда, правда, попадается словцо, которое ставит их в тупик, но о том, чтобы я вмешался, и речи быть не может. Это лишило бы меня последнего, хоть крохотного развлечения. Время от времени я дремлю, убаюканный поездом, и тогда забываю, что вынужден покинуть страну и город, которые люблю, на совершенно неопределенное время. Я, правда, убеждаю себя, что все это пустяки, и даже трижды пустяки по сравнению с тем, что пережили мои дед с отцом. Для итальянцев изгнание — дурная привычка, какая-то нелепая мания. Не вижу, почему я должен избегнуть общего правила. На ум приходят воспоминания детства. Всплывают в памяти все эти переезды, которые я сам и не пережил. Опять во мне оживает отцовский голос, как бывало порой вечерами, когда ему приходила охота порассказать о себе.
…Уехать? Еще до того как я родился, мой отец уезжал в Америку, за долларами. Потом уехали братья. Когда настал мой черед, шел как раз 1939 год, и я все-таки уехал, но только не за состоянием, а чтобы научиться держать ружье под знаменами. Дело было на севере, в Бергамо, и говорили там на всех, какие только есть, диалектах. По счастью, я нашел земляка, парня из нашей округи, так что было с кем поболтать по-нашему хоть тайком, потому что разговаривать на наречии начальство запрещало. Мы с ним стали compari — кумовья — это словечко у нас означало как бы обещание дружбы. Вечерами мы таскались в верхний город и там глазели, как фашистские вояки дрались с альпийскими стрелками, с этими, у которых перо на шляпе. Из нас они были единственные, которые могли утереть нос молодчикам Муссолини. Для чернорубашечников все было задаром, они входили в любую киношку или бар и кричали: «Дуче платит!» Может это и было первой причиной, которая сразу же заставила меня возненавидеть этих подонков. Но с настоящей войной все это еще не имело ничего общего. Мне в сорок первом году даже отпуск дали, чтобы я мог повидаться со своей невестой. А потом отправили нас с компаре, с куманьком, знаешь куда? В какую страну? Ни за что не догадаешься… Да я и сам не знал, что где-то есть такая… Вот там-то я и понял по-настоящему, что значит уехать…
Меня трясут за плечо. 10.34. Roma Termini.[11] Еще не сойдя с поезда, я уже чувствую что-то такое, чему пока не нахожу определения. Может, это просто летняя жара, некий странный запах… запах летней жары, очень яркий свет… не знаю. Толпа на перроне. Смотрю на переплетение всех этих рук на спуске с подножек вагона. Перила почти раскаленные. Зеленые вагоны поезда напротив сверкают на солнце. Вдалеке, под сенью навеса, пространство сереет. Вокзал похож на аквариум, огромный, совершенно квадратный и довольно неопрятный. Он гудит и кишит оживленными туристами, уже потными и распаренными. Пока это лишь преддверие, свободная зона, царство суеты и сомнительного предпринимательства. Обменяв несколько банкнот, решаюсь вынырнуть из аквариума. Слева и справа две световые арки — два выхода, и я колеблюсь, какой из них выбрать, чтобы вступить, наконец, в эту страну.
Я выбрал левый, ближний, через который следовало большинство, потому что он ведет прямо к конечной остановке автобусов. На одно мгновение застываю в неподвижности на пороге вокзала, не осмеливаясь пересечь улицу. На противоположном тротуаре — уже Рим, я узнаю его, еще даже не зная по-настоящему. Старые охристые стены, трамвайная линия, какое-то кафе, где сидят двое стариков, спрятав головы в тени навеса и выставив ноги на солнышко, маленькие нервные авто, понукающие друг друга гудками. Убеждаю себя, что мне как раз туда… Чтобы добраться до автобуса, иду по Виа Принчипе Амедео, присматриваясь к каждой лавчонке и пытаясь понять, совпадает ли это со смутными воспоминаниями, оставшимися у меня с детства. В полумраке парикмахерской лежит, откинувшись в кресле из-за отсутствия клиента, брадобрей, в позе словно для мытья головы, и читает газету. Миную двух цыганок, которые тянут ко мне руку. Под вывеской «Pizza & Pollo» сидят рабочие и грызут куриные ножки, не переставая орать друг на друга на диалекте, который не слишком отличается от того, на котором говорят мои родители. Но я прохожу слишком быстро, чтобы успеть разобрать, в чем там дело. Пересекаю улицу по солнечной стороне. Вдалеке виднеется цепочка автобусов, мой отходит около одиннадцати, так что еще остается немного времени. Возле столбика с указателем направления на Сору уже толпятся семьи, навьюченные чемоданами и детьми. «Dieci minuti! Dieci minuti, non с'è furia! Non с'è furia!»[12] — кричит шофер толпе, которая пытается втиснуться в его экипаж всеми доступными средствами. Замечаю неподалеку от остановки еще одного брадобрея, такого же праздного, как и первый. Провожу рукой по своей щетине.
Он поворачивает нос в мою сторону. Самое время выяснить, удастся ли мне его провести и сойти за местного, а не за туриста. Его-то итальянский кристально чист. Ни намека на акцент.
— Побрить или постричь, signore?
— Побрить.
— А в котором часу отходит ваш автобус?
— Через десять минут.
— Чудесно.
Пока я вроде бы неплохо справился с первыми словами, произнесенными на заальпийской территории. Если чуть-чуть повезет, он, может, и не догадается, что я француз. Он накрывает мне лицо горячей салфеткой, точит свой тесак, обмазывает мне лицо мыльной пеной. Лезвие поскрипывает на моей щеке. Так меня бреют в первый раз. Это приятно. Правда, когда он добирается до адамова яблока, я замираю. Но его горячая бритва точна.
Вдруг налетел порыв ветра. От сквозняка хлопнула дверь, а стопка журналов, положенных на край раковины, слетела на пол. Лезвие не отклонилось ни на миллиметр.
Флегматичный, непоколебимый, он всего лишь соизволил процедить:
— Per Вассо… Ché vento impetuoso!
«Клянусь Бахусом, какой буйный ветер!» Здесь, в Италии, я это слышу на каждом шагу.
Две минуты спустя моя физиономия становится глаже, чем стекло. Цирюльник улыбается мне и спрашивает небрежно:
— Вы случайно не из Эй-ле-Роз? Или из самого Парижа?
Немного смущаясь, отвечаю, что из второго. В первом у него наверняка какой-нибудь родственник.
Расплачиваюсь, пристыженный, что был разоблачен так быстро. Пока еще не знаю, сколько придется тут пробыть, но, право, было бы лучше, если бы меня принимали за уроженца здешних мест. Прежде чем я покинул его заведение, брадобрей наградил меня неподражаемым «Оррэвуар, мэссие!», явно желая показать, что и он тоже поездил по свету. Толпа на остановке испарилась, зато внутри стекла автобуса запотели. Свободным осталось лишь откидное сиденье рядом с водителем. Он трогает и, обливаясь потом, подмигивает мне со словами:
— Attenzione! Ми проезжатти мимо сам Колизео!
Действительно. А вскоре после того, как автобус проезжает Колизей, начинается сельская местность. Старый рыдван минует деревню за деревней, понемногу высаживая всех тех, кто прибыл тем же Палатино, что и я. А взамен вышедших сажает крестьян, женщин с огромными корзинами и ребятишек, возвращающихся из школы. Все тонет в веселой какофонии, все болтают между собой, меняются местами, чтобы усесться поближе к знакомым, словно целая деревня вдруг оказалась в одном автобусе. Какая-то женщина, сидящая прямо позади меня, рассказывает, заливаясь смехом, какие-то байки с птичьего двора, чем удерживает внимание всего автобуса последние десять километров. Я тоже смеялся вместе с остальными, даже не понимая ее слов как следует, и воображал себе: а что было бы, если бы мой отец отсюда не уехал? Вот этой женщиной с медной шеей, размашистыми движениями и заразительным смехом могла бы быть моя мать. А сам я мог бы быть вон тем молодым парнем в желтоватой майке, который читает «La corriere dello sport» и грызет зубочистку, не обращая на окружающий его тарарам ни малейшего внимания. А мой отец был бы сейчас в лесу и присматривал за тем, как работают молодые, в ожидании своей тарелки макарон. Но вот чего я все-таки не могу представить, так это себя в шерстяной майке. К тому же я не люблю футбол и всегда находил зубочистки вульгарными.