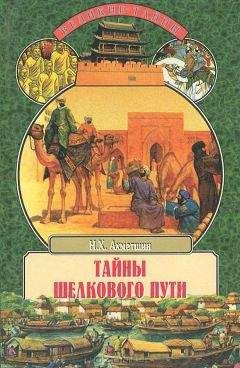— Нет, — Брунетти покачал головой. — Пока что у нас нет таких сведений. А что?
— Следы от инъекций. Никаких признаков злоупотребления наркотическими препаратами нет, так что, думаю, это были антибиотики или какие-нибудь витамины — словом, стандартный курс лечения. Вообще-то и следы эти настолько слабые, что, может, и не было никаких инъекций, просто синяки, и все.
— Но не наркотики?
— Нет, не похоже. Он легко мог бы сделать себе укол в правое бедро — он ведь был правша, — но ведь правше никак не уколоть себя ни в правое предплечье, ни в левую ягодицу, во всяком случае, в то место, где я обнаружил след. При том что здоровье у него, как я говорил уже, было отменное. Будь хоть какие-то признаки того, что он употреблял наркотики, уж я бы их нашел. — Он умолк, затем добавил: — Да и вообще я не уверен, что эти следы — на самом деле то, чем я их считаю. В отчете я их именую следами подкожных кровоизлияний.
По тону доктора Брунетти заключил, что тот не придает им особого значения и теперь жалеет уже, что упомянул о них.
— Еще что-нибудь?
— Больше ничего. Убийца, кто бы он ни был, украл у него еще как минимум десять лет жизни.
По своему обыкновению, Риццарди не выказал, а по-видимому, и не испытывал особого желания узнать, кто все-таки мог совершить это убийство. За все годы их знакомства Брунетти не услышал от доктора ни одного вопроса о преступнике. Иногда тот проявлял интерес, порой очень горячий, к какому-нибудь изощренному способу убийства, но казалось, ему совершенно все равно, кто совершил его и найдут ли убийцу.
— Спасибо, Этторе, — Брунетти пожал руку доктору. — Хотел бы я, чтобы наши в лаборатории так работали.
— Боюсь, для этого у них любопытства маловато, — ответил Риццарди, и Брунетти в очередной раз утвердился в своей уверенности, что этого человека ему не понять никогда.
На обратном пути он решил сойти с катера пораньше и зайти выяснить, может, Флавия Петрелли уже припомнила, что в последний вечер все-таки разговаривала с маэстро. Поддерживаемый ощущением, что нужно что-то делать, он сошел на набережной Фондаменте Нуова и направился в сторону госпиталя, стена к стене примыкающего к базилике Санти-Джованни-э-Паоло. Адрес, оставленный ему американкой, как и все венецианские официальные адреса, был практически бесполезен в городе, где у иных улиц с полдюжины разных названий, а дома нумеруются как бог на душу положит. Самое верное — это подойти к ближайшей церкви и расспросить кого-нибудь из живущих по соседству. Американку, наверное, найти будет нетрудно: обычно иностранцы предпочитают селиться в более фешенебельных районах, а не здесь, где крепко укоренился местный средний класс, а уж овладеть местным выговором так, словно ты тут родился, из них никому не под силу, кроме Бретт Линч.
У входа в церковь он спросил о доме, потом об американке, но женщина, к которой он обратился, понятия не имела ни о том, ни о другом, — но посоветовала ему пойти спросить Марию — так, будто всем известно, что это за Мария. Как выяснилось, названная Мария держит газетный ларек, что напротив школы, и уж если Мария не знает, где искать американку, значит, та живет не здесь.
Марию он нашел под мостом напротив базилики — седая женщина неопределенного возраста восседала внутри киоска и раскладывала газеты, словно гадалка — карты. Он протянул ей листок с адресом. Та улыбнулась:
— А, синьорина Линчи. — Мария ухитрилась произнести фамилию в два слога, как того требует итальянская фонетика. — Прямо по калле делла Теста, первый поворот направо, четвертый звонок, а заодно уж не занесет ли синьор ей газеты?
Брунетти без труда нашел искомую дверь. Имя было выгравировано на латунной пластинке возле звонка — потертой и потускневшей от времени. Он нажал на кнопку, и спустя мгновение голос из домофона поинтересовался, кто там. Так и подмывало ответить, что это служба доставки газет, но, удержавшись от искушения, он просто назвал свое имя и звание. Невидимый и неведомый собеседник ничего не ответил, однако дверь гостеприимно распахнулась. Единственная лестница располагалась справа от входа, и Брунетти пошел наверх, не без удовольствия подмечая впадины, вытершиеся в каменных ступенях за столетия. Ему нравилось, что уклон этих впадин поневоле заставляет идти точно по центру. Он миновал два пролета — второй этаж, еще два — третий. Пятый пролет оказался неожиданно широким, вместо прежних истертых мраморных ступенек лежали свежеотполированные плиты истрийского мрамора. Эту часть дома явно перестроили, причем совсем недавно.
Новые ступеньки заканчивались металлической дверью, приближаясь к которой он ощутил, что за ним наблюдают в крохотный глазок над верхним замком. Не успел он протянуть руку, чтобы постучать, как дверь открылась, и Бретт Линч, отступив в сторону, пригласила его войти.
Брунетти пробормотал ритуальное «Permesso»[23], без которого ни один итальянец не переступит порога дома другого итальянца. Американка улыбнулась, но руки не подала, а, повернувшись, повела его из холла в гостиную.
Он с изумлением обнаружил, что оказался посреди просторного помещения, метров десять на пятнадцать. Деревянный пол был из толстого дубового бруса, — такие балки поддерживают крыши в старейших домах Венеции. Стены, очищенные от краски и штукатурки, являли изначальную кирпичную кладку. А самым удивительным в этой комнате казалось невероятное количество света — солнце било сюда сквозь стеклянные люки в двускатной крыше, по три на каждой стороне. Человек, сумевший добиться разрешения на наружную переделку подобного старинного здания, наверняка либо имеет влиятельных друзей, либо сумел запугать и мэра, и главного архитектора. Причем все это проделано совсем недавно — тут до сих пор свежо пахнет деревом.
С дома он переключил свое внимание на хозяйку. Вчера вечером он как-то не заметил ее роста — этой угловатой долговязости, которую американцы находят привлекательной. При всем том в ее облике не было и следа изможденности, которая так часто присуща высоким. Вся она была какая-то крепкая, здоровая, и это впечатление еще усиливало ее чистое лицо с ясными глазами. Он поймал себя на том, что буквально уставился на нее, — пораженный умом в этих глазах и ища в них хитрость. Брунетти не мог понять, что мешает ему принять ее такой, какой она кажется — просто красивой и неглупой молодой женщиной.
Флавия Петрелли сидела в несколько картинной позе у самого левого из трех узких окон в левой стене, из которого можно было разглядеть видневшуюся вдалеке колокольню Святого Марка. На его приход прима отреагировала лишь легким кивком, и он ответил тем же, прежде чем сообщить той, другой:
— Я принес ваши газеты.
Он нарочно подал их ей, повернув первой полосой кверху — так, чтобы видны были снимки и кричащие заголовки. Она, скользнув по ним взглядом, проворно сложила их и со словами «Благодарю вас» бросила на низенький столик.
— Разрешите выразить восхищение вашим домом, мисс Линч!
— Спасибо, — отозвалась та.
— Так необычно — столько света, эти окна в потолке в таком старинном здании, — продолжал комиссар, с любопытством продолжая осматриваться.
— Да, не правда ли? — любезно улыбнулась хозяйка.
— Будет вам, комиссар, — нетерпеливо перебила Флавия Петрелли. — Вряд ли вы пришли сюда обсуждать дизайн.
И словно желая смягчить резкость своей подруги, Бретт Линч пригласила:
— Садитесь, Dottore Брунетти, — и жестом указала на низкую тахту возле занимавшего центр комнаты стеклянного столика, — блистательная хозяйка светского салона. — Не желаете кофе?
Кофе комиссару не особенно хотелось, но от предложения он решил не отказываться — чтобы дать понять певице: он не торопится, — и посмотреть на реакцию. Примадонна, не обращая на него ни малейшего внимания, снова погрузилась в изучение лежавших у нее на коленях нот, пока ее подруга удалилась сварить кофе.
Пока его таким образом игнорировали — одна варила кофе, другая читала партитуру, — комиссар внимательнейшим образом осмотрелся. Стена перед ним была сплошь уставлена книгами, от пола и до потолка. Он легко узнал итальянские книги, потому что текст на их переплетах шел снизу вверх, и английские, чьи названия писались сверху вниз. Больше половины книг были напечатаны иероглифами, пожалуй что китайскими. Судя по виду переплетов, книги читали, и не однажды. На стеллаже среди книг тут и там виднелись какие-то глиняные вазочки и фигурки — что-то смутно-восточное. Одна полка была целиком занята коробочками с наборами компакт-дисков, что наводило на мысль, что это — полные записи опер. Слева от них стояло какое-то мудреное стереоприспособление, а в дальних углах на деревянных тумбах возвышались большие колонки. Немногочисленные картины на стене представляли собой какие-то яркие авангардные брызги и не говорили ему ровным счетом ничего.