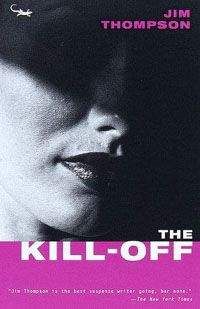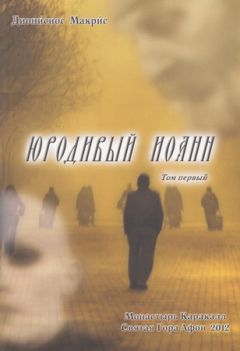Странный жар охватил меня всего с ног до головы. Он нарастал, и я не понимал его происхождения. Никогда раньше со мной такого не случалось. Но в конце концов я догадался, я вычислил его природу.
Я поднялся. Потихоньку вернулся к следам колес и отправился по ним назад к своей машине, рассуждая сам с собой.
Ничего нового я, конечно, не придумал. Наркотики сдерживают сексуальные позывы, поэтому в первую очередь следовало приняться за нее. Никаких сложностей с этим не предвиделось; к тому же потом она могла бы избавиться от привыкания так же легко, как и втянулась. Если бы только мне удалось получить наркотик и поработать с ним — а я мог бы это сделать, — тогда я прикончил бы этого безмозглого сукина сына, моего папашу, вздумай он надоедать мне...
Я оборвал свои размышления. Мои раздумья на тему отцеубийства, в моем положении вполне обоснованные, неожиданно переплелись с другой мыслью.
Внезапно я понял, как по-другому добиться того, что я задумал. Конечно, пока мне следовало заняться черновой работой, следовало подготовить ее к этому. Но главное — я знал.
Я ЗНАЛ!
Я добрался до машины и, улыбаясь, открыл дверцу.
Она сидела, завернувшись в пальто, но больше на ней ничего не было. Я попросил ее одеться. Я произнес это нежно, с любовью. Нежно, с любовью я стал помогать ей, сопровождая это поцелуями и ласками.
— Не надо!.. Что тебе нужно?
— Ничего, — ответил я, — только то, что нужно тебе, дорогая. Если тебе что-то нужно, значит, это нужно и мне.
Она смотрела на меня как птица, зачарованная змеей. У нее стучали зубы. Я обнимал ее, нежно прижимался губами к ее губам, любовно гладил ее по волосам.
— Вот и все, что мне нужно, детка. А теперь скажи мне, чего хочешь ты.
— Я х-хочу д-домой. Пожалуйста, Бобби.
— Послушай, — сказал я. — Я люблю тебя. Я бы все на свете мог сделать для тебя.
Я целовал ее, прижимал к себе. Но ее губы оставались вялыми и безжизненными, а тело было холодным как лед. И постепенно жар, пылавший во мне, угас. Как будто жизнь оставила меня.
— Не надо, — проговорил я, — ну пожалуйста. Я просто хочу любить тебя. Просто любить, и чтобы ты любила меня. И ничего больше. Только нежности и ласки...
И вдруг я вцепился в нее. И тряс так, что ее безмозглая голова едва не отвалилась.
Я кричал, что, если она не сделает того, о чем я говорю, я убью ее.
— Богом клянусь, я так и сделаю! — Я ударил ее по лицу. — Я разобью к чертям твою проклятую башку! Ты будешь со мной ласковой, придурочная шлюха! Ты будешь со мной нежной, сука! Ты будешь со мной ласковой и нежной, будешь любить меня, ТЫ, ПРОКЛЯТАЯ ТВАРЬ! Не то я...
Это может показаться неправдоподобным, но я действительно любил ее. И тогда, в самом начале, и еще много долгих лет. А потом это стало невозможно. Потому что нам нечего было разделить друг с другом, кроме постели, да и то все реже и реже. Даже самые важные в жизни моменты мы и то не могли разделить друг с другом. Это было просто невозможно, понимаете? Поэтому любовь ушла.
Но когда-то...
Ей было года двадцать два — двадцать три, когда она пришла ко мне. Практически неграмотная — жалкая, побитая жизнью обитательница трущоб. Из-за расовых предрассудков, развитых в нашем штате, — они и до сих пор, к сожалению, сильны во многих местах, — негры практически не могли получить образование, а жить могли только в трущобах.
Я нанял ее прислуживать в доме и платил ей вдвое против той суммы, которая составляла обычную в наших местах нищенскую плату черной прислуге. Я дал ей приличное жилье, отвел ей чистенькую комнатку с отдельной уборной в мансарде своего дома.
Она была худой, истощенной, и я проследил, чтобы ей было обеспечено полноценное питание. Она нуждалась в медицинской помощи, и я взял это на себя — в ущерб своим платным пациентам.
Я никогда не забуду тот день, когда впервые осмотрел ее. Даже лохмотья, в которых она пришла в мой дом, не могли скрыть ее красоту. Но то, что я увидел, намного превзошло мое воображение. Мне много раз приходилось видеть обнаженных женщин — по долгу моей профессии, конечно, — но ни одну из них я не мог бы сравнить с этой. Она была как статуя из слоновой кости, изваянная великим художником. Даже истощенность и болезненность не могли скрыть...
Но я отвлекся.
Она была бесконечно благодарна за все, что я для нее сделал. Благодарность переполняла ее. Куда бы я ни направлялся, я всюду чувствовал на себе ее взгляд, и в ее глазах читалось такое благоговение, какое можно увидеть только в собачьих глазах. Думаю, прикажи я ей выпить яду, — она ни секунды не стала бы колебаться.
Я совсем не ждал от нее такого обожания и однажды прямо сказал ей, что она мне ничем не обязана. Я объяснил ей, что сделал лишь то, что счел необходимым. То, что в подобных обстоятельствах сделал бы любой порядочный человек для другого человека. Все, чего я жду от нее, сказал я ей, это чтобы она была счастливой и веселой, как и положено такой славной девушке.
Она не последовала моим наставлениям. Во всяком случае, я выразил свою волю ясно, но она не пожелала подчиниться. Ее благодарность пребывала неизменной. Где бы я ни был, она всюду следовала за мной, тихая и властная, пассивная и непокорная, но неизменно настойчивая в своем намерении. Отделаться от нее казалось невозможным, в этом я был над ней не властен.
Я боялся оскорбить ее чувства, да и не видел особого вреда в том, что уступлю ее настойчивости, — ведь больше ей нечего было мне предложить. И однажды я был так легкомыслен, что не отверг ее дар. В конце концов, примерно на второй месяц ее пребывания в моем доме, я принял его.
В первое время это еще не было любовью. По крайней мере, с моей стороны. Для меня это было средством пощадить ее гордость и, конечно, в какой-то степени физической потребностью. Но скоро, очень скоро пришла и любовь.
Мне кажется, что это неизбежно должно было случиться.
Я вырос в нищей семье сезонных рабочих. У моих родителей было двенадцать детей. Трое родились мертвыми, пятеро умерли в младенчестве. Самый большой дом, где мы когда-нибудь жили, состоял из двух комнат. Молоко я попробовал впервые, когда мне было лет шесть или семь, и тогда же узнал, что на свете существует мясо, а полным комплектом одежды обзавелся, будучи уже почти взрослым. И если бы не случилось так, что мной заинтересовался надсмотрщик на плантации, где мы работали, если бы он не убедил моего отца оставить меня с ним, когда наша семья уезжала оттуда, я вырос бы в таком же убожестве, как и весь наш выводок. Как мои братья и сестры... если они живы, конечно. Сборщики хлопка, землекопы... белые отбросы.
Да нет, я клевещу на себя. Никогда бы я не стал таким, как они. И без этого самого надсмотрщика я нашел бы способ пробиться. Кстати, можете мне поверить, жизнь с ним отнюдь не была сладкой.
Помню, все школьные годы, и в колледже, и потом, в медицинской школе, я ни разу не позволил себе отдохнуть целиком весь день.
Я зарабатывал своим трудом каждую ступень, на которую поднимался. В моей жизни были только работа и учеба. Я не мог тратить время на развлечения, я не встречался с девушками. А потом, когда я наконец получил практику, избавился от финансовых проблем и у меня появилось свободное время, оказалось, что я не знаю, как к ним подступиться. Мне было не по себе в женском обществе. Я не умел ухаживать, не умел говорить всякую дребедень, которую девушки явно ожидали услышать. Однажды мне стало известно, что юная леди, к которой я был неравнодушен, отозвалась обо мне как об «ужасном чурбане».
Теперь вы понимаете. Хэтти любила меня. Меня любила женщина, красивее которой я не видел никогда в жизни. И я мог держаться с ней запросто, говорить с ней о чем угодно, хотя ее ответы и не всегда были вполне разумными, и не чувствовать при этом никакой неловкости.
Я без памяти влюбился в нее. Иначе и быть не могло. Когда она сказала мне о своей беременности, я, по правде говоря, испугался. Испугался и не на шутку разозлился, потому что сам рассказывал ей о тех мерах предосторожности, которые ей следовало принимать. Теперь не оставалось иного выхода, кроме аборта, несмотря на то, что срок был уже около трех месяцев. Но на мое несчастье, Хэтти, обычно подчинявшаяся всем моим требованиям, на этот раз оказала сопротивление.
С яростью тигрицы она отстаивала свой зародыш, пытаясь запугать меня тем, на что она якобы готова, если я не оставлю своих посягательств. Я не уступил, хотя был немало поражен ее поведением, — и тогда она прибегла к мольбам. И они не оставили меня равнодушным, несмотря на то, что другая печаль заботила меня гораздо сильнее.
Она говорила, что мальчик «сойдет» — она не сомневалась, что это будет мальчик. Возможно, лет через двести тщательного отбора, поколений через восемь и родится ребенок, который, будучи ее потомком, сойдет за белого. Мне ли было не знать этого? Мог ли я не понимать, почему она так этого хотела?