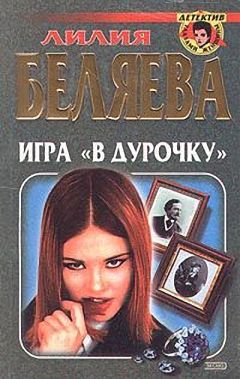Мы уже спустились с крыльца, как мне вдруг что-то стукнуло в голову.
- Жди! - бросила Маринке.
Почти бегом - через вестибюль, по лестнице... Рванула на себя ручку двери сгоревшей комнаты и... и не сразу смогла произнести заготовленную фразу. Потому что в комнате творилось что-то малопонятное на первый взгляд, чудовищное, кипела какая-то адова работа. И "Быстрицкая", и секретарша, и сестра-хозяйка ползали-лазали по полу, двигали остатки мебели, шарили за плинтусами, переворачивали матрас на постели умершей, лихорадочно перещупывали подушки, одеяла и периодически оповещали друг друга:
- Это мое! Я нашла!
И время от времени хвастались друг перед другом:
- Глядите, ложка серебряная!
- Ой, а я нашла шифоновый шарф!
- Ой, а я этот термос заберу!
Они были вне себя, как грибники в лесу, наткнувшиеся на россыпь белых. Они измазали пеплом и прочей грязью пожарища не только руки, но и одежду, и лица. Они настолько были увлечены своим варварским, убогим занятием, что не замечали меня, хотя я стояла в дверях уже минут десять, не меньше, как вкопанная и очумелая. Особенно меня поразила красавица "Быстрицкая", недавно столь высокомерная, томная девица... И секретарша Валентина Алексеевна удивила немало. После почти слезливых причитаний и такая резвость в поиске чужих вещей в комнате-могиле, такое усердие в выковыривании ножичком чего-то там, возможно, завалившегося в щель за плинтусом... Да и сестра-хозяйка была хороша... Презрев свою дородность, грязь на полу, она просеивала руками мусор, что подгребла веником на середину комнаты.
- Вы меня простите, - громко сказала я в расчете на то, что бабенки спохватятся и как-то усовестятся.
Но ничего подобного не произошло. Они уставились на меня равно враждебным взглядом, и "Быстрицкая" сказала за всех:
- Вы все забрали, что хотели. Остатки - нам. Мы всегда берем после.
- Я не за тем... я портрет забрать.
- Берите, берите! - радостным хором, и сами же сняли со стены обгорелую раму с полупортретом Георгия Табидзе. Этим самым они как бы уравнивали меня с собой, принимали в свою забубенную компанию. В пальчиках с лакированными длинными ноготками блестело лезвие ножа... Видимо, "Быстрицкая" с его помощью выискивала особо искусно упрятанные сокровища в самых труднодоступных щелях и дырах. Мне стало страшно. Меня охватило ощущение какой-то общей, зловещей тайны, сцепившей этих лихих бабенок накрепко, на веки веков... А я-то им зачем? Тем более, что Анна Романовна, прижимая к высокой груди большой розовый китайский термос, сердито выговорила "Быстрицкой":
- Дверь-то почему забыла запереть?
И нож, ножик-то ишь как посверкивает... И вот-вот, сейчас-сейчас начнется что-то жуткое, где этот ножик будет задействован... Это же хищная стая... вряд ли меня спасет бумажный, полуобгорелый Табидзе...
Пришлось силой воли подавить в себе нелепый в сущности страх: ведь это, все-таки, не джунгли, не Берег Слоновой Кости, а Москва, и за прокопченным окном сияет майское солнце... И как хорошо, что у ног сестры-хозяйки я углядела клочок фотографии, видимо, отброшенный ею за ненадобностью - три головы: две женские, а в середине - мужская. Узнала Табидзе, а женщины неизвестны.
Как можно дружелюбнее я спросила у замерших женщин:
- Это вы нашли? Можно взять?
И опять они словно бы все вместе бросились исполнять мое заветное желание... Обрывок полусгоревшей фотографии я сунула в свою сумку и ушла.
Навстречу мне попался директор. Он шел быстро и что-то тихонько напевал. Видимо, настроение у Виктора Петровича было неплохое.
- Что такое? - остановил он меня. - Что-нибудь случилось?
- Да нет, - я затянулась сигаретой, и мой голос с хрипотцой был вял и равнодушен. - Просто Марина попросила фото забрать... Табидзе...
- Хорошо, что вы задержались, - вдруг произнес он. - Мне надо отдать вашей Марине конверт с... Пройдемте ко мне в кабинет!
Прошли. Я все потягивала дым из бело-кремовой трубочки.
Директор вынул из сейфа конверт:
- Возьмите. Здесь удостоверение на могилу. Мордвинова похоронила мужа на Ваганьковском. Там и её похоронили... Давно курите?
- С десяти лет, - соврала с долей наглядного самобичевания.
- Зря! - сказал. - Здоровье надо беречь. Нельзя со своим организмом обращаться кое-как... - он не нашел точного определения и закончил: - Я это вам как врач говорю!
- А вы и врач? - наивно вякнула я.
- В прошлом, - был ответ. - Имейте в виду - никакой наряд не способен привлечь мужчин к курящей женщине! Вы же молоды... "Целоваться с пепельницей", как говорится... мало интереса... Легкие, бронхи, сердце - их жалеть и жалеть надо...
- Спасибо. Я подумаю над вашими словами, - и пошла прочь.
Но он остановил меня:
- Зачем вы носите темные очки? Даже в помещении не снимаете?
О, ответ у меня был припасен, и я отозвалась без подозрительного промедления:
- Аллергия. Что-то цветет мне во вред. Отекают веки и краснеют глаза. Зачем же пугать людей?
- Чем пользуетесь?
- Тавегилом.
Это была дружелюбная беседа или все-таки допрос? Не поняла, нет. Но когда мы с Маринкой решили ловить попутку, я ей сказала:
- Ни слова обо всем, что было в этом доме! Мало ли... Вдруг шофер тоже в игре. Что-то мне очень не по себе. Потом все расскажу. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Садимся, молчим, изображаем усталых девиц.
Так и сделали. Сели в машину к пожилому человеку. Конечно, трудно его и старенький "москвичок" заподозрить в связях с Домом, где сжигают людей ни за что, ни про что, потом рыскают в их комнатах-могилах в явном расчете, что полоумная старуха по-пиратски спрятала где-то здесь свои основные сокровища. И все-таки... Но зато он говорил почти без умолку и на очень полезную для нас тему:
- Вы из этого Дома? Где старые-престарые? Ох, как же это можно жить не в своей квартире и умирать в чужих людях! Ох, не дай Бог! У меня в одном таком доме сватья в няньках. Так, говорит, надо им, врачам-то, уморить какого старичка, либо же старушку, - у них это запросто, у них средства имеются. А чего им залеживаться, старым-то, если мест для других не хватает, а этим сто лет в субботу... Тоже понять можно, врачей-то... Но если меня взять - ох, не хотел бы с чьей-то помощью да на тот свет! Конечно, некоторые из них и в девяносто с твердой памятью, а другие и в шестьдесят под себя ходят... Не наубираешься...
Еще он ворчал насчет всякого рода "мерсов" и "чароков", которые мчатся сломя голову, потому что за рулем сидят молодые бритоголовые тупари, они же и бандиты, воры в законе. Это он не спустил белой иномарке, что вжикнула мимо, действительно, едва не задев его, судя по всему, леченый-перелеченый "москвичок". А закончил, подъезжая к Маринкиному дому, с едким беспомощным пафосом пенсионера:
- А чего ждать еще-то? Какой манны небесной? Лучше для простого, честного человека не будет! Это же арифметика для первого класса: власть ворует, грабит, так чего же другим-то, хватким, не хапать то и се? Вот и идет грабиловка по всему фронту!
Мы с Маринкой рассмеялись, пожелали дедушке доброго здоровья и вылезли из машины со своими сумками. А там, в Маринкиной квартиренке, где то и дело прикашливал Олежек, но не ныл, не сидел без дела, а подобно многим выздоравливающим детям, с усердием рисовал за своим детским низеньким столом...
Босой и угрюмый Павел угрюмо трудился неподалеку. Он писал натюрморт из овощей и фруктов. Избранные овощи и фрукты возлежали на столе, уже порядком пожухлые. Но мастер делал их свежими и аппетитными. Он почти не обратил внимания на нас. Так, глянул искоса и словно бы злобненько, и продолжал осторожно кисточкой слизывать краски с деревянной палитры.
Маринка поглядела-поглядела на своего хмурого, словно неродного мужа, который стоял в одних трусах синего цвета, небритый, с всклокоченными волосами, ничего не произнесла даже... Зато он упредил какие-то её припасенные наветы и, словно в отместку, заявил ядовито:
- Представь, за эту картину мне заплатят тысячу долларов. Если, конечно, она приглянется посреднику. Он повезет её в Испанию. В Испании сейчас ценятся такого рода картины под средневековье. И если так все пойдет - побегу километрами писать помидоры, огурцы, яблоки. Вот тогда ты перестанешь меня пилить... Богатых не пилят.
Маринка ничего не ответила. Я же поняла, что сей монолог предназначался мне, то есть совсем посторонней женщине в жутко ярком прикиде. Он меня не узнал.
Мы с Маринкой прошли на кухню. Я сняла парик, красный пиджак и прочее, сходила в ванну, вымылась с головой, которая вспотела под париком и чесалась, переоделась в Маринкин ситцевый халатик и вернулась к ней. Мы разом отхлебнули из кружек чай, разом взглянули друг на друга и расхохотались неизвестно почему. Хотя, может быть, потому, что сыграли задуманный спектакль вполне классно. Или потому, что мы обе, девочки-припевочки, с малых лет мечтавшие о красивых порханиях в балетных пачках или, на крайний случай о выходах на большую сцену в ролях Джульетты, Марии Стюарт, Анны Карениной и, естественно, о явлении энергичных красавцев-принцев с сияющими от любви к нам глазами, получили то, что получили, и не более того.