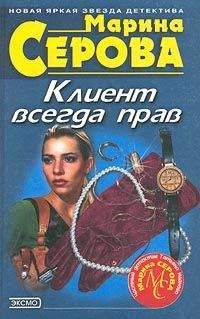— Вздор, — возмущенно рыкнул Степан Федорович, — Вероника на это не способна. Продолжайте работать.
— Простите, — я едва сдерживала раздражение, — но это по меньшей мере глупо.
— Я удваиваю ваш гонорар, — твердо произнес Дюкин-старший.
Эти слова приятно согрели мне душу, но я решила расставить все по местам.
— Хорошо, — сказала я размеренным голосом, — я буду заниматься поисками убийцы вашего сына, но вы должны дать мне письменное подтверждение, что я получу свои деньги даже в том случае, если будет установлено, что убийцей является его жена.
— Приезжайте, я все приготовлю.
Я снова уставилась в экран, на котором лицо Дюкиной, перекошенное от неистовой ненависти и горечи, дергалось, точно его что-то раздирало изнутри.
— И вот я приехала домой… — она надрывно всхлипнула, — и только тогда поняла, что произошло… Нет, не поняла, — судорожно поправила она себя, — просто мне стало невыносимо тоскливо. Я подумала, что Альберт уже никогда не приедет с дачи, никогда не сядет в свое любимое кресло…
При этой истерической реплике я вдруг представила себе те неудобные кресла из белой кожи с поблескивающими закругленными подлокотниками, на одном из которых я имела несчастье сидеть, и с иронией подумала: какое из этих белых чудищ было «любимым» креслом Альберта Степановича? Или в доме имелись другие, более комфортабельные?
— Я не хотела этого, видит бог, не хотела, — скулила Вероника, — все произошло, как во сне. Я любила своего мужа, я не желала ему зла… Но он… — губы ее задрожали пуще прежнего, — он прези… — она разрыдалась.
И в ту же минуту на экране появилась заставка. Друг за другом поплыли открыточные виды Тарасова: набережная, консерватория, проспект, здание горадминистрации, площадь Революции.
Я нажала на пульт и пошла в прихожую. Я представляла, какое смятение царит на студии. Может, Дюкина рассказала бы еще много интересных вещей, но ее «выключили».
Проделав с замками все необходимые манипуляции, я очутилась на улице. Сев в свою «девятку», прямиком отправилась к моему заказчику.
Честно говоря, ситуация была не из самых ясных, даже если учесть признание Дюкиной. Тем не менее два звена одной цепи: факт любовной связи Дюкина с сурдопереводчицей и его убийство, совершенное Вероникой, казалось, следовали друг за другом. Вполне возможно, что, отправившись на дачу и застукав там мужа с Зарубиной, она выстрелила в Альберта, движимая ревностью и ненавистью. Так что же это получается? Убийство на любовной почве?
Но Дюкин-старший упорно отказывался верить тому, что Вероника могла убить мужа. Это упорство еще, конечно, не означает, что он прав и Дюкина ни при чем. Но для того, чтобы приняться за расследование этого дела, я тоже должна опираться на веру в невиновность последней. А этой веры как раз у меня и не было. Нет, я знаю, что порой, признаваясь в чем-то страшном и постыдном, люди хотят лишь привлечь к себе внимание, что на самом деле они не совершили и десятой доли того, в чем признаются. Всякое бывает, но с Дюкиной…
Могла ли я допустить, что Вероника, не имея никакого отношения к убийству мужа, но признавшись в этом убийстве, хотела лишь выказать себя великой во зле, потому что быть великой в добре было ей не по силам? И поэтому затеяла весь этот спектакль с признанием? В любом случае, я должна с ней поговорить и как можно скорее.
Степан Федорович принял меня в своей мрачной квартире, облаченный в темно-синий костюм. Он был сосредоточен и немного раздражен.
— Я думаю, вы тоже не верите в этот бред, — безапелляционно заявил он, едва я заняла массивное кресло с изумрудной обивкой, — иначе вас бы здесь не было.
Он прошил меня «кинжальным» взглядом, точно сомневался в моей порядочности. Я выказала полную невозмутимость, сделав максимальное усилие, чтобы он не заметил моего душевного колебания.
— Я плачу вам четыреста долларов в день, а вы доказываете, что Вероника не имеет никакого отношения к этому грязному делу.
Он снова смерил меня быстрым, пронизывающим взором и, криво усмехнувшись, открыл бумажник, который держал в руках. Пока он отсчитывал купюры, я соображала, стоит ли ему говорить об измене его сына с Зарубиной или лучше воздержаться. Наконец я решила ничего ему не говорить. Успеется еще. Меланхоличным жестом я опустила доллары в карман и посмотрела на Дюкина ясным, как слеза ребенка, взглядом.
— Степан Федорович, — я хотела полностью оградить себя от возможных недоразумений, которые могли возникнуть впоследствии, в связи с моим согласием продолжать начатое дело, — я должна уточнить вашу формулировку.
— Ну, — он недовольно посмотрел на меня.
— Вы платите мне четыреста долларов в сутки за то, что я найду убийцу вашего сына. Прошу вас учесть, — твердо произнесла я, — что им может оказаться и ваша невестка. Это вы должны подтвердить письменно.
— Хорошо, — поморщился он, — пусть будет так.
Он выудил откуда-то чистый лист, достал из кармана костюма ручку «Паркер» с золотым пером и размашистым почерком написал то, что я от него требовала.
— И еще, — добавила я, — мне нужно срочно побеседовать с Вероникой Сергеевной.
Он нетерпеливо вскинул свои густые брови.
— Она уже в КПЗ, — холодно бросил он, — звонила мне оттуда, просила помощи. Я должен сделать один звонок… Думаю, мне удастся устроить вам встречу с ней.
Я сделала вид, что рассматриваю обложку лежащего на журнальном столике «Вокруг света», а он вышел из гостиной. Минуты через три он вернулся еще более озабоченный и сумрачный.
— Вы можете с ней встретиться. Она в Октябрьском РОВД. Дежурному скажете, кто вы. Он уже предупрежден о вашем визите. Если вдруг вместо него будет кто другой, скажете, что вам дал разрешение полковник Воронин.
— Спасибо.
* * *
Помещения Октябрьского РОВД, где я вскоре оказалась, просто подавляли. Метлахская плитка на полах, неровные стены, выкрашенные в ярко-синий цвет, кресла, как в старых кинотеатрах, с сидений которых свисали клоки порванного и вытертого дерматина, огороженное деревянными перилами пространство, где пребывал лысоватый дежурный в звании сержанта, — все это открылось моим взорам, как только я перешагнула порог этого мрачного заведения. За черной металлической решеткой я увидела бледную Дюкину и еще какую-то неряшливо одетую женщину с синяками под глазами и жесткими всклокоченными волосами, казалось, не знакомыми ни с мылом, ни с шампунем. Женщина с интересом косилась на Дюкину, а та полностью ушла в себя, не замечала никого и ничего.
— Здравствуйте, — обратилась я к сержанту, — моя фамилия Иванова.
Он одарил меня одним из тех недоверчиво-снисходительных взглядов, которыми обычно смотрят милиционеры на человека, пришедшего подать заявление на соседа-хулигана. Потом медленно поднялся, словно он жутко устал, и, поигрывая ключами, направился к клетке. В этот момент в помещение вошла ватага молодых служителей порядка. Они отборно матерились, но, заметив меня, сбавили обороты. Я краем глаза оценила их небрежную походку и издевательские улыбочки. У одного было до жути простонародное веснушчатое лицо, лица троих других поражали грубостью черт, которые в совокупности с общим презрительно-насмешливым выражением делали их вульгарными до безобразия. Они воззрились на меня, словно на диковинную птицу из сказки. Пройдясь взорами по моей ладной фигуре, удовлетворенно перемигнулись и заржали. Один из них отпер боковую дверь, и они всем скопом прошли в комнату, с демонстративно гордым и независимым видом захлопнув за собой дверь.
— Дюкина, — обратился сержант к Веронике, выводя ее из состояния транса, — к вам пришли.
Дюкина вздрогнула и подняла глаза. Видно, мое появление было ей глубоко безразлично, потому что она равнодушно отвернулась.
Сержант открыл клетку и замер с ключами в руках. Я вошла. Он же, заперев клетку, неспешной походкой направился на свое рабочее место. Я села рядом с Дюкиной на деревянную лавку и осторожно взглянула на нее.
— Меня прислал к вам ваш свекор. Он не верит в то, что вы убили его сына, вы меня слышите?
Я повернулась к ней всем телом. Она отрешенно смотрела на меня, словно я была врачом, а она душевнобольной. По ее лицу было заметно, что она испытывает горечь разочарования. Я предположила, что ее досада вызвана тем, что она просчиталась с эффектным шагом, осуществленным ею на телевидении. Она, наверное, думала, что вокруг будут сновать любопытные журналисты и коллеги, но оказалось так, что она теперь сидит в заплеванной клетке одна, если не считать милого соседства «синеглазки» со всеми признаками долгого бомжевания. Эта дамочка, кстати, проявляла бешеный интерес к нашей едва начавшейся беседе. Она не просто косилась, она сверлила нас своими опухшими глазами, которые словно вылиняли от неумеренного потребления спиртного. Женщина шмыгнула носом и грубо вмешалась в наш разговор: