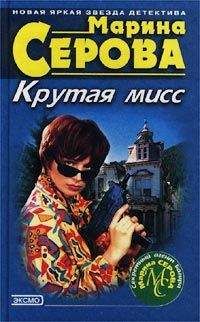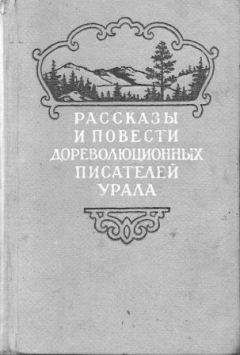— А его обидчики? Отчим, отец Юли и ее брат со товарищи?
— А что с ними случится? Живы и здоровы, наверное. А может, и нет. Я не знаю, где они, — спокойно сказал Владимир, отворачиваясь. — Между тем наши боссы не спешат прерывать разговор. Ну что, выпьем еще?
— Да, немного, — согласилась я. — Но только не этого вашего коктейля.
* * *
История Владимира произвела на меня неожиданно сильное впечатление.
Вообще-то человек я не самый впечатлительный и далеко не сентиментальный. Прошла в жизни через многое, немало повидала. Мне тоже приходилось терять близких людей: мои собственные родители погибли в Нагорном Карабахе в восемьдесят седьмом году во время бомбардировки. Отцу тогда только-только присвоили звание полковника, и он получил назначение в одну из частей того района.
С тех пор, по сути дела, у меня не было ни одного по-настоящему близкого человека. За исключением Грома. Хотя и он — с обретением власти и нового, «заоблачного», положения — отдалился. И не только духовно, но и географически.
А тут — действительно странно. В рассеянном полумраке «коктейльной» передо мной соткался человек, чужой, незнакомый, говорящий мерным глуховатым голосом и даже не затрудняющий себя мимикой, человек с тусклыми серыми глазами, цветом напоминающими высыхающую на солнце рыбью чешую. И своим рассказом затронул какие-то струны в моей душе, о которых я и не подозревала. Забавно: в начале разговора с ним — нет, даже не разговора, а так, вынужденного общения по воле наших боссов, — я даже не могла определить, сколько ему, Владимиру Корсакову, лет, а сейчас, после того как выгорела свеча его простого и жуткого рассказа, невесть зачем переданного мне в довесок к бокалу чудесного напитка, я не могла сказать, что же, собственно, со мной произошло.
Глупо? Ну что же, Юлия Сергеевна. Будем разбираться.
И вот в этот момент до меня донесся голос Дмитрия Филипповича:
— Я думаю, господин Лозовский, мы сможем достигнуть какого-то решения. По крайней мере, завтра и послезавтра есть время для консультаций с правительством области и советом директоров комбината.
Судя по всему, как я и думала, ушлый Роман Альбертович «утрамбовал» губернатора на какие-то конкретные шаги. Впрочем, поточнее узнаю, прослушав запись.
Дмитрий Филиппович, осовелый от сытости и, видимо, удовлетворенный услышанным от Лозовского, не без труда вытянул из глубокого кресла свое тучное тело и, протянув Роману Альбертовичу пухлую руку, громко — куда громче, чем говорил до этого, — произнес:
— Благодарю вас, Роман Альбертович, за теплый прием. Иногда очень приятно почувствовать себя гостем в собственной, как говорится, вотчине.
Так, это следует понимать как окончание встречи на высоком уровне.
Теперь осталось только понять, зачем губернатор таскал меня с собой. Потому что мои функции свелись к поглощению яств и коктейлей, последний из которых был особенно остр и насыщен. Да и история про него и под него… ничего не скажешь.
Я перевела взгляд с моего босса на Владимира. Он сидел, чуть откинувшись назад, и еле заметно улыбался одними углами губ — характерной бесцветной улыбкой, по которой невозможно было угадать, что она, собственно, выражает.
«Странно, очень странно», — не уставала я повторять про себя, как будто внутри меня сорвалась какая-то пружина и теперь толкала по кругу механизм, ведающий проворачиванием в моем мозгу именно этих слов: «странно, очень странно».
— Я велел подогнать ваш «Ягуар» к клубу, — сказал Дмитрий Филиппович. — Он же оставался возле администрации.
Я молча кивнула…
* * *
Дорога летела за окном моего «Ягуара», как серая лента, стелющаяся плавными извивами, изредка вскидывающаяся словно в тщетном усилии налипнуть на лобовое стекло. Устала? Не дорога, конечно, — я? Может быть.
Боковое мое окно было открыто, и в висок била упругая струя прохладного предночного воздуха, но мне все равно было душно и нелепо. На душе неспокойно. Еще бы, день получился бурный, насыщенный, несмотря на то, что воскресенье.
Пока я избежала посещения увеселительного вечера у Кульковых. Но такие сборища у них, как я пару раз уясняла на собственном горьком опыте, имели обыкновение заканчиваться с первыми проблесками рассвета и последними проблесками водки на дне стаканов. Поэтому не исключено, что, заметив мое возвращение, за мной придут и меня сволокут в дом Димы и Юли, где заставят алкогольные напитки пьянствовать и безобразия нарушать. Такому обаятельному человеку, как господин Кульков — а будучи навеселе, он и вовсе неотразим, несмотря на далеко не фотомодельные внешние данные! — отказать сложно.
Спать не хотелось. Да и домой, откровенно говоря, тоже. Ночь предвиделась восхитительная, и я неожиданно для себя самой, проехав мимо дома, свернула по спускающейся к Волге дороге — мимо ограды особняка, в котором жил сосед-»авторитет», мимо залегших бесформенными тенями молодых деревьев в позапрошлом году высаженной лесополосы.
И выехала почти на берег.
От реки меня отделял только черный влажный овраг, дышащий сыростью и неясной тревогой. Откуда она, эта тревога? Как об этом поется в довольно известной песне: «дом стоит, свет горит, из окна видна даль — так откуда ж взялась печаль?»
Я притормозила машину и включила запись разговора Лозовского и Дмитрия Филипповича, уверенная, что ничего сенсационного не услышу. Иначе все было бы по-другому.
И оказалась права. Речь шла не только о комбинате Войнаровского, но и о пакете акций, который хотелось получить Лозовскому.
Среди всего прочего заслуживал интереса фрагмент, начинавшийся с реплики олигарха:
«— Дмитрий Филиппович, у меня есть информация, что господин Фиревич вовсе не так очевидно не заслуживает доверия со стороны директоров „Диаманта“.
— Что вы имеете в виду?
— Что господин Войнаровский инспирировал задержание Фиревича, так как видел в нем конкурента. И что если Фиревич будет освобожден под залог и за недоказанностью, то у него большие шансы занять кресло гендиректора.
— Ну да… обиженных в России любят.
— Дело не в любви или нелюбви. Дело в объективном раскладе позиций».
Затем следовало молчание. Видимо, собеседники отдали должное напиткам, приготовленным искусной рукой телохранителя Лозовского. Потом раздался негромкий голос губернатора:
«— Роман Альбертович, будем говорить начистоту, раз мы завели такой приватный разговор. Я вас прекрасно понимаю: вы хотите, чтобы я поспособствовал освобождению Фиревича под залог. Залог будет внесен, понятное дело, из ваших же денег. Вы хотите, чтобы Фиревич, ваш родственник, стал гендиректором взамен убитого Войнаровского, и вы этого можете добиться. Он поспособствует установлению над комбинатом вашего контроля. Продаст вам контрольный пакет акций, да и все тут. — А я и не скрывал своих целей. Более того, я приехал говорить о продаже пакета акций с Войнаровским и с вами, как с первым лицом региона. Разве это нанесет ущерб вашей губернии? Никоим образом.
Снова молчание, покашливание Лозовского, а потом его голос:
— Я сейчас впервые в жизни скажу то, чего обычно не произносят вслух: если вы полагаете, что я имею какое-то, даже самое отдаленное, через десяток посредников, отношение к смерти Александра Емельяновича, то это не так. Вот оно, самое интересное!
— Не мой масштаб. Я не какой-нибудь мелкий рэкетир. Я не заключаю сделок со смертью. Более того, мне это невыгодно. Каждый криминальный акт на таком уровне подрывает кредит доверия наших зарубежных партнеров. Того же «Де Бирса». Я понимаю, что у вас есть искушение думать иначе. И напрасно. Повторяю, я сказал то, о чем обычно не говорят, ибо это дурной тон, но вы человек умный, вы поймете…»
Та-а-ак! Я выключила запись. Лозовский открыл свои карты. Он вступил на запретную территорию, прямым текстом заявив о своей полной непричастности к смерти Войнаровского. Да, заказывать человека в канун визита к нему было бы, мягко говоря, странно.
И потому я все больше склонялась к тому, что сказанное Лозовским — чистая правда. Только это нужно доказать. Или доказать противоположное.
А как красиво сказано: «Я не заключаю сделок со смертью».
На месте не сиделось. Несмотря на то что запись была выключена, мне все еще чудились какие-то неясные шумы, плыло тусклое бормотание в ушах, а потом слух начал подхватывать нервные выкрики ночных птиц. И тогда я, бросив машину, пошла к реке, которая влекла свои воды метрах в пятистах от нее.
Хмель давно выветрился, но на губах неугасимо тлел какой-то горьковатый и одновременно солоноватый привкус. Да… от «Романа и Джульетты». Я больше ничего и не пила, если не считать двух глотков белого столового вина.
Я прошла по предночному пролеску, спускаясь в овраг и, кажется, ловя в каждом отголоске нервное предвестие беды. Глупо это, совсем неразумно и беспричинно, особенно для агента моего уровня, но мне казалось, что из-за каждого ствола, из-за каждого изгиба прихотливого склона под ногами, горбатясь и беззвучно ухая, вырастали тени. Они смотрели на меня тусклыми, как чешуя снулой рыбы, глазами и затаивались, словно для последнего, рокового прыжка. Я остановилась и машинально потянулась к сумочке на плече, где лежал пистолет. Нет, незачем. На кого вскидывать оружие? На ручей, который «бросился» мне под ноги, как переливающийся чистой блестящей шерсткой щенок? Или же на соловья, который, захлебываясь, излил свои тревожные гортанные трели и провалился в сгущающееся безмолвие? Или на саму ночь, затаившуюся в верхушках деревьев и в черных беспроглядных волнах реки где-то там, впереди меня?