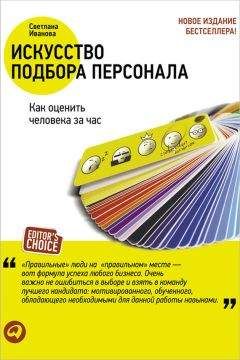— Учится средне, от общественной работы отлынивает, к литературе равнодушен…
— А к жизни? — задал он, может быть, странный вопрос в применении к подростку.
— Не знаю, я учу своему предмету.
— А жизни? — упрямо повторил он.
— Кто ребят учит жизни?
— Именно.
— Вопросик ваш, знаете ли, академический…
Она вежливо улыбнулась, показывая, что на подобные вопросы отвечать не принято. Петельников допускал, что молодая учительница замешкается, но такой неприкрытой откровенности не ждал. Хотя бы попробовала, хотя бы побормотала.
Петельников помнил своих преподавателей, которые учили литературе, химии, математике… Ребята усваивали. С годами литература, химия и математика выветривались, но вот образы учителей живы до сих пор. Потому что знания оседали в уме, а учителя запечатлевались в сердце. И больше всех знаний ребят интересовали личности этих биологичек, русачек, химиков и физруков: как они говорят, что думают, с кем дружат, куда ходят, что у них за мужья-жены… Не знаний жаждали ребята, а хотели у преподавателей научиться жить.
— Свой предмет — это лишь повод для воспитания, — не удержался он от внезапно пришедшей мысли.
— Как вы сказали?
Она сморщила носик, и тот мучнисто побелел. Петельников, не зная зачем, мимолетно приметил, что побелел он не оттого, что хрящеват, а от того, что она сильно наморщилась.
— Я хотел спросить: любит ли он ваш предмет?
— Ему скучно.
— А почему?
— Он, видите ли, не согласен с толкованием образов классической литературы.
— Каких?
— Сейчас не помню. Да всех. И Онегина, и Раскольникова, и Отелло…
— Я тоже не согласен, — вздохнул Петельников.
Она рассмеялась, как хорошей шутке, и носик вновь побелел, и опять-таки не оттого, что сильно хрящеват, а оттого, что сильно засмеялась.
— С чем вы не согласны?
— Негуманная она.
— Кто? — удивилась учительница, не допуская даже намеков.
— Классическая литература.
Взгляд Раисы Владимировны выразил такую степень удивления, что Петельникову в узком креслице вдруг стало тесновато. Он подобрал длинные ноги и поставил их перед собой острым холмиком.
— Литературу, ценимую главным образом за гуманизм, вы называете негуманной?
— Раиса Владимировна, возьмите упомянутого вами Онегина… Убийца. Почему же герой романа он, а не Ленский? И где сострадание к Ленскому, к убитому? Раскольников. Тоже убийца, тоже изучается писателем. А убиенные женщины? Где к ним жалость? Отелло. Опять убийца. А Дездемона, а сострадание к ней? Этот ряд я мог бы удлинить.
— Извините, у вас подход законника…
— А я и есть законник. Меня всю жизнь учили ценить и охранять человеческую жизнь, Раиса Владимировна. И когда я выезжаю на убийство, то жалею убитого, а не убийцу.
— Законник и крючкотвор, — уточнила она.
Петельников не обиделся, потому что следил за ее носиком: тот удивлял. Сейчас учительница не смеялась и не морщилась, а хрящики побелели. И он почему-то вспомнил о белье, которое, тоже беленькое и, в сущности, уже отстиранное, второй день лежит в тазу и кренделями висит на боку ванны. Тут же его мысль скоренько сама перескочила на дела и на сейф, набитый ждущими бумагами, перескочила на подростка, где-то бродившего… А он ведет беседы о гуманности классической литературы.
— Раиса Владимировна, почему же Вязьметинов скучал? Ведь литература — предмет веселый.
— Не веселый, а серьезный, — обрезала она.
Теперь она обрезала, потому что Петельников в ее глазах пал неподъемно. Неумение поддакивать ему часто вредило. Истинно сказано: «Никогда не отнекивайся, всегда отдакивайся».
— Саша на всех предметах скучал, — добавила она.
— Может, занятия нудные? — вырвалось у Петельникова.
— А я даю урок, а не эстрадное представление!
Но он перед учительницей уже не робел: чары детства отпустили. Впрочем, чары детства и родная школа останутся с ним навсегда, они тут ни при чем. В кресле морщила носик одна из тех, которые под воспитанием понимают нотации, правила, досмотры, слежки, проверку сумок и карманов…
— Я проводила внепрограммные уроки, — заговорила Раиса Владимировна обидчиво. — В прошлом году была дискуссия на тему «Все мы будущие матери и отцы». А этот учебный год начала с сочинения на тему «Кем быть?».
— И кем они хотят быть?
— Очень интересные цифры, я их даже помню. Девять человек — космонавтами, восемь — каскадерами, пять — дипломатами, шесть — писателями, семь — балеринами… Ну и так далее.
Она смотрела на него с гордецой, ожидая, видимо, похвалы. Или восхищения? Но Петельников спросил:
— А кем захотел быть Вязьметинов?
— Это, кстати, его характеризует… Написал, что хочет стать батюшкой, чтобы у него была толстая матушка.
— И что вы сказали?
— Вязьметинову?
— Нет, ребятам.
— Похвалила, естественно.
Он глянул в окно, в школьный сад, еще не совсем облетевший. Листья были сгреблены в вороха. Стволы выбелены ярко, приствольная земля окопана. Кусты подрезаны, сорняков нет. Ребята постарались. И ни один не написал в сочинении, что хочет быть садовником или садоводом? Впрочем, как напишешь, когда рядом строчат о космосе да о сцене. Проще выдать про батюшку с матушкой.
— Зачем вы их обманули, Раиса Владимировна? — тихо укорил Петельников.
— Я не понимаю…
— Неужели девять человек станут космонавтами? Или все семь девочек — балеринами?
— Хотя бы одна да станет.
— А остальные шесть? Потраченные зря годы, разочарования, а то и поломанные жизни…
— Мы должны приучать к мечте!
— И говорить правду мы должны.
— Какую? Что не у всех есть способности?
— Эту тоже. Но и главную правду: обществу не нужно столько балерин, артистов и каскадеров.
— И тогда ребята, по-вашему, воспылают желанием стать слесарями, токарями и пошивальщиками обуви?
— Не знаю, воспылают ли… Но, вступая в жизнь, молодой человек обязан считаться с потребностями общества.
Петельников глянул на часы. Почему эта классная руководительница его не гонит? Дело оперуполномоченного уголовного розыска — расспрашивать о преступлении, бегать, ловить, хватать, разузнавать… А не вести педагогические дискуссии.
Он встал.
— Раиса Владимировна, последний вопрос… Почему Саша Вязьметинов пошел на преступление?
— Откуда же мне знать?
— А почему Онегин застрелил Ленского, знаете? Конечно, знаете. Почему Раскольников зарубил женщин: Почему Отелло задушил Дездемону? Знаете. А почему ученик Саша Вязьметинов обокрал квартиры — не знаете. А?
Она тоже встала. Носик — греческий или римский? — побелел морозно.
— Вы не работник милиции, а демагог.
— Да ведь вы тоже не учительница, — добродушно улыбнулся он. — Вы не учительница, а поучительница.
Приресторанный бар казался сумрачной расщелиной: узкий, светильники притушены, темное дерево стен выглядит иконным, табачный дым синит остатки света… Только за стойкой белела яркая полоса, в которой барменша творила свои коктейли и чашечки кофе.
Леденцов разглядел: муж потерпевшей Анны Васильевны Смагиной сидел в самом конце стойки, в конце бара, как в серой норе. Но свободных мест рядом с ним не было.
Вчера капитан Петельников, когда они встретились накоротке, рассеянно спросил, что, интересно, поделывает вечерами муж Смагиной. Леденцов знал приказную силу этих рассеянных вопросов. И сегодня он уже смог бы ответить, что вечерами муж Смагиной сидит в серой мгле приресторанного бара и пересчитывает годовые древесные кольца на полированной стойке. Оставалось лишь подсесть. Сдерживало опасение, что Смагин его узнает: мог запомнить с посещения их квартиры.
Леденцов прошел в ресторанный вестибюль, в тихий уголок. Для таких моментов был припасен тонкоматерчатый берет, который натягивался на голову, как чехол, и закрывал опознавательную шевелюру до единой волосинки. И темные очки, и сумка через плечо. Полумрак в баре завершит маскировку. Он глянул в зеркало: там переминался студент, забежавший выпить фруктовый коктейль. Но всегда удивляло одно: стоило надеть этот безразмерный берет, как нос заметно удлинялся, будто подрастал.
Леденцов вернулся в бар и сразу увидел, что рядом со Смагиным освободились два места. Он сел на круглое высокое сиденье, похожее на высоконогую кнопку.
— Шоколадный коктейль и кофе, пожалуйста.
Появление нового соседа Смагина не привлекло. Он хмуро, но с прочувственным вниманием следил за своей пустой рюмкой, будто видел в ней то, что другим было не разглядеть. Его худое лицо откровенно краснело и вроде бы задубилось горячим и дымным воздухом бара.
Леденцов отпил коктейль. Разбуженный этим действием соседа, Смагин повернул голову и сказал негромко, но со значением: