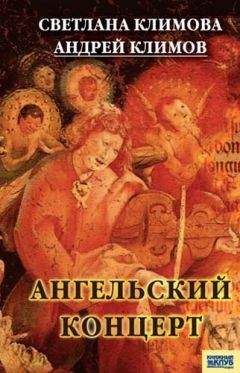Зато я точно установил, что не всегда в этом доме действовал запрет на курение. По крайней мере, Матвей Ильич не был свободен от пагубной привычки.
Выбравшись из шкафа, занимавшего четверть спальни, я оказался буквально с глазу на глаз с единственной картиной, висящей здесь, и поразился — как я мог до сих пор ее не замечать. Возможно, причина в том, что находилась она на стене в изножье кровати, но это была такая штука, что, раз увидев, вы уже больше не могли от нее отделаться.
Довольно большое полотно, академический сюжет — Христос в кругу учеников, спокойный сумеречный колорит. И при этом никак не понять, что за таинственная и притягательная сила исходит от жмущихся друг к другу простоватых галилейских парней, среди которых далеко не сразу можно было отыскать Иисуса из Назарета. Там, на щебнистом Тивериадском побережье, среди жухлых кустиков тамариска и зарослей колючих сорняков, среди ржавых камней у края воды, он никого не учил, не изъяснялся притчами, не молился и не исцелял. Бродяга-плотник просто дремал — день накануне выдался не из легких. Только плечи выдавали его — повисшие и окаменевшие в безмерной усталости, словно на них и в самом деле давили все грехи мира. Позади лежала белесая предрассветная гладь озера без единой рыбацкой лодки до сумрачного горизонта, над ней стелился туман. Костер погас, было пронизывающе холодно, а до восхода еще не меньше часа.
Еще не сделав ни шагу к холсту в простой белой раме, я уже догадался, кто автор. Подпись и в самом деле состояла из двух сцепленных букв — инициалов Матвея Кокорина. И хотя ценитель я никакой, по-моему, это была работа серьезного художника. Что угодно, только не случайная удача. Во всяком случае, я на мгновение явственно почувствовал сырой запах водорослей и близкой воды, пота, золы, пеньки, пресных лепешек и незнакомого рыбного блюда. Каждого из тех, кого изобразил мастер, я знал поименно, знал также, что с ними сделали потом, но только теперь вдруг понял, как им там приходилось.
С трудом вспомнив, что нахожусь здесь совсем не для того, чтобы любоваться живописью, я отвернулся и направился туда, откуда доносился голос Евы.
Справа и слева от спальни, не считая крохотной душевой и туалета, располагались две комнатки, одна из которых принадлежала Нине Дмитриевне, а вторая служила кабинетом хозяину дома. Еву я нашел в комнате супруги художника. Выглядела она примерно так, как я представлял себе эту женщину, — уютно и рационально и в то же время с оглядкой на прошлую жизнь. Центральное место занимал стол-бюро из лимонно-желтой карельской березы со множеством ящичков и отделений. Ева уже убедилась, что все они не заперты. К столу была вплотную придвинута обитая темным бархатом банкетка — вроде тех, какие используют концертирующие пианисты; полки книжного шкафа заполнены словарями и книгами на четырех языках — большинство на немецком. Над столом висел портрет пожилого мужчины в мягкой фетровой шляпе и пиджаке покроя середины прошлого века. Черный галстук был туго затянут под его массивной челюстью. Лицо этого шестидесятилетнего человека выражало решимость и целеустремленность, небольшие серые глаза смотрели из-под тяжелых век ясно и проницательно. Эта черно-белая фотография, увеличенная и отретушированная при помощи компьютера, была оправлена в простую, но дорогую раму.
Кроме того, на столе стояли детские фото Павла и Анны — я сразу узнал обоих, — а также самого Матвея Ильича. Честно говоря, ввязавшись в эту историю, я понятия не имел, как в действительности выглядит Кокорин. До этого момента он существовал только в моем воображении — преимущественно в виде трупа на ковре гостиной внизу, а с фото на меня смотрел вполне бодрый мужчина средних лет, шатен с гладко зачесанными назад редеющими волосами и неожиданно густыми и темными бровями, сходящимися на переносице. Глаза художника были глубоко посажены, левое веко слегка опущено, словно он целится или вот-вот укажет на что-то пальцем, а резко очерченная, неправильной формы носогубная складка придавала его лицу выражение насмешливое, измученное и смущенное. Если бы мне понадобилось сравнение, я бы сказал, что в ту пору Кокорин смахивал на актера Джереми Айронса в «Stealing Beauty» и одновременно — на простого мастерового из тех, что еще до сих пор водятся в провинции, типичного интроверта и любителя порассуждать с самим собой об отвлеченных материях.
Но теперь-то я знал, что он настоящий художник — и какой!
В остальном в комнате Нины Дмитриевны не было ничего примечательного — узкая кушетка, плотные шторы на окне, выходящем на еще одну террасу под пластиковым навесом, расположенную на кровле первой, той, что у входа в дом; на подоконнике — немецкая Библия небольшого формата в тисненом переплете из телячьей кожи. Еще — шкатулка с украшениями, большей частью бижутерией, и кое-какая косметика на полочке у зеркала в простенке между книжным шкафом и окном.
Я машинально взял в руки Библию и подивился ее тяжести. Книга оказалась отпечатанной в Лейпциге в 1724 году, и каждая из плотных желтоватых страниц была как скрижаль; крупные готические литеры острыми гвоздиками вколачивали незнакомые слова в память. В конце, как и положено в семейной Библии, шли листы для записи рождений, смертей, а также дат совершения церковных обрядов, и первая же запись — от 20 марта 1728 года — была связана с каким-то Георгом Мейстером Везелем, а рядом с последними датами я с удивлением обнаружил написанные по-немецки имена самой Нины Дмитриевны, обоих ее детей и неизвестного мне малолетнего Дмитрия Муратова, явившегося на свет девять лет назад.
Я захлопнул книгу и задумчиво потрогал раму окна. В это время Ева спросила:
— Как ты думаешь, если я как следует покопаюсь в ящиках бюро…
— Конечно, — произнес я, не оборачиваясь. — Мы за этим и пришли. И будь повнимательнее…
Оконная рама неожиданно подалась и распахнулась. К ригельной защелке стеклопакета я не прикасался, а значит, к ней прикасался кто-то другой и намного раньше. Из сада дохнуло свежестью, сквозняк надул штору. На светлом виниле подоконника была отчетливо видна буроватая полоска в форме косой дуги — вроде тех, которые оставляют на линолеуме ранты дешевых кроссовок.
Я перевел взгляд на датчик сигнализации на стекле. Тонкие проводки, ведущие к нему, были целы, но на одном виднелся клочок лейкопластыря. Я ощупал его — провод под ним был перерезан и, соответственно, датчик оставался глухим и немым. Забраться в это окно с верхней террасы — минутное дело.
— Знаешь, — вдруг проговорила Ева, — наверно, ты должен взглянуть сам.
Я резко обернулся. Ева сидела на банкетке, выпрямив спину и слегка откинувшись. Два боковых ящика стола-бюро были выдвинуты, но она к ним не прикасалась. Я заглянул через ее плечо — там лежали самые обычные вещи: расчетные книжки, счета, заполненные крупным разборчивым почерком, похожим на почерк моей учительницы в начальных классах, коробка скрепок, какие-то потрепанные справки из неведомых организаций.
Еще там имелись две пачки поздравительных открыток. Допотопных — с цыплятами, завитыми девушками в кружевных блузках, сердечками, голубками и гнездышками. Немецкие и швейцарские, рождественские и пасхальные. Обе пачки были перехвачены голубой и алой ленточками, но сейчас эти ленточки были развязаны, а открытки перемешаны и рассыпаны по дну нижнего ящика.
— Твоя работа? — спросил я.
— Ничего подобного! — возмутилась Ева. — Я только открыла и все. Тут есть еще один такой интересный альбомчик…
— Погоди, — сказал я, — не сейчас…
Пятью минутами раньше все мое внимание занимал книжный шкаф и стоящие в нем книги. Там была совершенно определенная система — все словари располагались отдельно, но в остальном, независимо от жанра, тома были сгруппированы по языкам — отдельно немецкий, французский, английский и, наконец, русский. Однако среди немецких изданий почему-то затесалась парочка английских, а сборник статей Романа Якобсона торчал на французской полке.
Такую оплошность Нина Дмитриевна вряд ли могла допустить даже в крайнем расстройстве чувств. Плюс открытки в ящике. Наверняка здесь побывал посторонний, и произошло это, скорее всего, в промежутке между днем похорон и тем днем, когда Павел и Анна наконец-то пришли в себя и отправились в опустевший дом родителей, чтобы навести порядок. То есть между восемнадцатым и двадцать вторым июля.
Вполне возможно, что именно этот человек приходил за «Мельницами», так как восемнадцатого, по утверждению Павла, картина еще стояла на мольберте в мастерской, а двадцать второго ее там уже не было. Но что искали в комнате жены художника? По свидетельству брата и сестры, все сколько-нибудь ценные вещи в доме остались в целости и сохранности. Значит, это был не рядовой грабитель, и решал он вполне конкретную задачу. Кстати, если он проник в дом через окно комнаты Нины Дмитриевны, каким образом ему удалось попасть в мастерскую Кокорина? В мастерской отдельная сигнализация; Павел сообщил мне, как ее отключить, но чужой не мог об этом знать. Если, конечно, это и в самом деле был чужой.