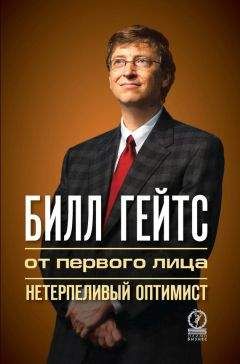– Они не беспокоятся на сей счет, Рейнер. Это маленькое сражение уже закончилось без единого выстрела. Вы затеваете большой процесс в свою защиту, и они спокойненько упрятывают вас куда-нибудь подальше на то время, пока идет шоу. Вы признаете себя виновным, и вас сажают в самолет, следующий в Лондон. В Лондон, заметьте, а не куда угодно, лишь бы подальше. Это называется репатриацией, а не депортацией. – Он внезапно поднялся и продолжил уже по-английски: – Вот так, в двух словах, обстоят дела. Не забудьте передать мое почтение Биллу Косфорду, когда увидитесь с ним.
– Кто это? – Рейнер тоже поднялся.
– Посол ее величества в Агуадоре. – Он по-испански обратился к лейтенанту, сидевшему у двери: – Между нами, лугартеньенте, что вы теперь собираетесь делать с сеньором Рейнером?
– Я не могу вам ничего сообщить, сеньор консул, но сопровождающие получили приказ готовиться к рейсу в Сан-Доминго.
– Ладно, не можете, значит не можете. – Эммерсон с неподвижным лицом повернулся к Рейнеру. – Всегда помните о том, что люди это люди. Коротышки в маскарадных костюмах и ботфортах не по росту грозят нам своими стиснутыми жирными кулачками со страниц газет, пытаясь внушить, что мы должны их бояться. – Его мутно-карие глаза обратились к портрету на стене; затем он вновь взглянул на Рейнера, будто удивляясь собственным словам. Но Рейнер чувствовал, что этот человек может сказать то же самое на прекрасном английском языке в лицо любому – лейтенанту агуадорской полиции, римскому папе, отставному немецкому генералу или избранному президенту Соединенных Штатов, поскольку это было выражением его философии и выводов, сделанных из многолетнего опыта политика на государственной службе и просто человека. – Потому что они опасны. Мы помещаем их туда, чтобы удовлетворить собственную потребность в насилии. Они – наши игрушки, и ничто не может помешать нам сдуть их с тронов. – Он застегнул молнию своего портфеля и направился к двери. – Но не будем углубляться во все это.
Лейтенант распахнул перед ним дверь, но Эммерсон остановился и обернулся. Его глаза вспыхнули. Рейнеру передалось его настроение.
– Вы знаете одну существенную особенность игрушки? Она маленькая. И мы используем самые маленькие из своих игрушек для наиболее захватывающих игр. Не было еще ни одной первоклассной войны без маленького человечка, который устраивал ее для нас. Кайзер, Ллойд Джордж, Гитлер, Муссолини, Черчилль – каждый из них является предметом обожания в своем кукольном доме, а большие неловкие дети в это время, спотыкаясь, добираются до детской и сдувают их прочь, прежде, чем огонь не охватит весь этот чертов дом. Для детей нашего поколения есть только одна надежда, Рейнер: в этом году и в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне игрушки покрупнее. Прибавить еще несколько дюймов московской кукле, и у всего человечества может появиться шанс подрасти.
Он вышел из комнаты. Лейтенант жестом велел Рейнеру следовать за ним. В коридоре Эммерсон еще раз обернулся к Рейнеру. Его лицо опять стало неподвижным, словно он надел маску.
– Вероятно, Рейнер, об этом можно было бы и не напоминать, но вам следует помнить: для столь отдаленной страны, как эта, коммуникации жизненно важны, и такие авиакомпании, как Трансокеанские линии, пользуются большим авторитетом. Так что, если вы решите все же вступить в бой, то за вашей спиной будет вся мощь T.O.A.
Они пожали друг другу руки, и консул зашагал по коридору. Охранник в дверях приветствовал его салютом.
– Прошу подождать здесь. – Рейнера привели в маленькую комнатку с решеткой на окне и засовом на внешней стороне двери и оставили одного. Из-за двери донесся голос, приказывавший что-то насчет сопровождающих и дежурного водителя.
Одну-две минуты он думал об Эммерсоне. Этот человек был слишком честным и слишком много говорил о своих убеждениях. Вероятно, именно из-за этого он в свои без малого пятьдесят оставался всего-навсего консулом в отдаленной республике. Почти шести футов росту, с широкими плечами, он был слишком велик, чтобы сдунуть его прочь.
Затем Рейнер услышал, как выкрикнули другой приказ (на сей раз он уловил слово «заключенный») и вернулся к раздумьям о своем положении. Эммерсон был прав: слова о том, что он ни в коем случае не сможет победить, остудили его стремление к борьбе, а перемена настроения сразу же отразилась в его глазах, пока он слушал консула. Подсознание уже по-другому оценивало неизбежное путешествие в столицу: он собирался встретиться там с британским послом, а майор Парейра обеспечивал его транспортом.
Теперь он знал, что этот номер не пройдет. Эммерсон в неведении указал на важную вещь. Даже если он решит бороться с ними – и несколько месяцев прохлаждаться в тюрьме, пока расследование исчезновения самолета будет продолжаться без него – он не получит никакой поддержки со стороны Т.О.А. Скорей всего, они, узнав о положении дел, прислали сюда телеграмму: «Просим обеспечить депортацию нашего представителя».
Все окружающие были его врагами.
«Никакая защита здесь не поможет».
По коридору протопали ноги.
И никакого выбора. Сражение закончилось скрипом засова вместо свиста пуль. Они победили.
На улице заработал мотор автомобиля. Слышно было, как в машину что-то бросают. Его багаж. «Они – наши игрушки». А мы – игрушки игрушек.
Так что он должен был уехать, ничего не закончив. Тень на глубине в шестьдесят пять фатомов, отмеченная крестом на карте. Лицо на фотографии и красивое имя.
За Рейнером пришли и вывели его во двор, ярко освещенный фонарями и пропитанный смрадом выхлопных газов. Где-то среди фонарей должно было теряться пламя на большой темной вершине. Теперь он знал, что это красиво.
Это, конечно, было случайностью, ведь полицейские не знали о его больной руке, но один из них, помогая забраться в кузов высоченного военного фургона, сильно стиснул ему плечо, и Рейнер тяжело шлепнулся на сидение. По всему телу от боли выступил пот, голова закружилась, а перед глазами замелькали призрачные яркие пятна.
Он сидел, пытаясь подавить подступившие от боли тошноту и отчаяние. Во всем теле резко отдавались толчки тронувшейся машины. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мундиров цвета хаки, блестящих кобур красной кожи и фуражек с козырьками, под которыми лица теряли человеческий облик и становились похожи на головы хищных птиц со странными клювами. Он повторял про себя странное непонятное слово – название единственной вещи, которая сейчас имела хоть какое-то значение.
«Катачунга… Катачунга…»
К полуночи крытый военный грузовик свернул с ровного шоссе, ведущего из Пуэрто-Фуэго, и двинулся по проселочной дороге, проложенной между рисовыми чеками. Неровности, оставшиеся в илистой глине после последнего наводнения, были пропечены солнцем. Теперь колеса разбили их, и за машиной тянулся длинный шлейф пыли, более густой, чем дым из паровозной трубы. В звездном свете пыль казалась черной.
Время от времени Рейнер открывал глаза и смотрел, где они находятся. Сейчас он видел силуэты тростниковых хижин, стоявших на сваях над затхлой водой. Пронзительный звон цикад заглушал рев мотора, а однажды откуда-то из пампы донесся страшный вопль совы-змеелова. Через час они уже достигли засушливой полосы и начали подниматься в предгорья.
Он сидел согнувшись, держа левую руку на коленях. Незажившая кожа снова начала кровоточить там, где полицейский повредил ее, и рукав прилип к ссадине. Его голова уже была достаточно ясной для того, чтобы думать. Он думал о доме.
Было необходимо принять решение. После нескольких недель постоянной активности в неурочное время – днем – во время жаркого сезона на экваторе он думал о лондонском дожде со снегом с таким же вожделением, с каким кочевник пустыни думает об оазисе. Даже просто избавиться от мух – и то было бы облегчением. От мух, непрерывного лязга землечерпалки и смрада, распространяемого фабриками, где перерабатывали акул. А весь Лондон сегодня исчерпывался для него простыми понятиями: там холодно и цивилизованно.
Сейчас ему представлялся шанс вернуться домой, но Рейнер не хотел этого. Работа в лондонском аэропорту представляла для него постоянный интерес – она было очень трудна и потому оплачивалась куда лучше, чем все его предыдущие должности. Однако его совершенно не радовала перспектива возвращения к своим занятиям, в то время как на противоположном краю мира будет проходить начатое им расследование.
С каждой милей Рейнер все отчетливее сознавал, что мысленно склоняется к решению, которое подсознательно принял уже давно. Он не должен покидать Агуадор.
Был ночной рейс в три утра. Они, вероятно, хотели бы отправить его на нем.
Далеко справа он видел слабый отблеск соленого озерка, сине-белого при свете звезд. Значит, они проехали долину между отрогами и сейчас снова будут подниматься в гору. Он закурил, чтобы немного успокоить нервы, и сказал: