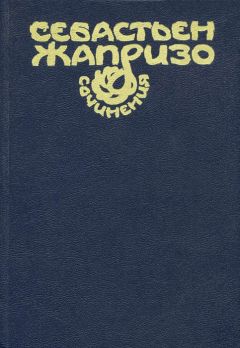— Где вы пропадали? Так мы никогда не уедем.
Филипп Филантери, по прозвищу Плут-плут (потому что два плута лучше, чем один), обладал по меньшей мере одной из основных добродетелей: он твердо знал, что в тот момент, когда он умрет, мир рухнет и, стало быть, все остальные не имеют никакого значения, они существуют только для того, чтобы снабжать его всем необходимым, а потому нечего ломать себе голову над вопросом, достойны ли они хоть чего-нибудь, тем более что много думать глупо — ведь умственное напряжение может отразиться на здоровье и сократить срок его жизни, те шестьдесят или семьдесят лет, которые он рассчитывал прожить.
Накануне ему исполнилось двадцать шесть лет. Воспитывался он у иезуитов. Смерть его матери — она умерла несколько лет назад — была единственным событием в его жизни, действительно причинившим ему боль, и он до сих пор не мог смириться с этой утратой. До недавнего времени он был хроникером одной эльзасской газеты, а сейчас в его кармане лежал билет на теплоход до Каира, контракт с каирским радио и несколько су. С точки зрения Филиппа, женщины по своей натуре существа низшие и обычно не требуют большого умственного напряжения, а потому они самая желательная компания для такого парня, как он, которому надо два раза в день поесть, время от времени переспать с кем-нибудь и до четырнадцатого числа этого месяца добраться до Марселя.
Если бы сейчас было утро или хотя бы суббота, он бы зашел в любой дом с дешевыми квартирами, познакомился с какой-нибудь домашней хозяйкой, измученной, с непонятной душой, но сторонницей де Голля. Пока ее муж не пришел со службы, а ребятишки из школы, он взял бы у нее интервью для «Прогре де Лион», и их разговор закончился бы в супружеской постели, а она бы потом объяснила мужу, что потеряла свой кошелек в магазине стандартных цен. Или же он отправился бы сам в этот магазин и обработал бы там какую-нибудь продавщицу… Но в субботу, тем более к вечеру, головы у продавщиц забиты ошибками кассирши и чепухой, которую несут покупательницы, так что у него не было никакой надежды на удачу.
Он зашел в кафе и, глядя в темноту сквозь стекло витрины, съел рубленный бифштекс. Кафе выходило на набережную Мессажери. Он долго сидел там, понимая, что пойти куда-нибудь в другое место обойдется еще дороже, и, кроме того, он по опыту знал, что после наступления темноты надо уметь ждать упорно, на одном месте, иначе прозеваешь свое счастье. Часов около одиннадцати он увидел, как на набережной остановился белый «тендерберд». Филипп как раз доедал второй бифштекс и допивал новый графинчик вина. Он разглядел в машине косынку — то ли зеленую, то ли голубую, — сзади — номер департамента Сены. «Наконец-то», — подумал он с облегчением и встал.
В тот момент, когда он открыл дверь кафе, из машины вышла молодая женщина. Высокая, в белом костюме. Она была уже без косынки, и ее золотистые волосы блестели, освещенные светом фонарей. Левая рука у нее была перевязана бинтом. Женщина перешла улицу и скрылась за дверью другого кафе, чуть подальше. Ее настороженная и в то же время размашистая походка понравилась ему.
Прежде чем заглянуть в кафе, Филипп тоже пересек улицу, только в обратном направлении, прогулялся вокруг машины, проверяя, не сидит ли кто-нибудь в ней. Там никого не было. Он открыл дверцу у руля. В машине пахло дамскими духами. Над приборным щитком он обнаружил пачку сигарет «житан» с фильтром, вынул одну и закурил от зажигалки в машине. Открыв ящичек для перчаток, он осмотрел его, потом, — стоявший сзади чемодан: две пары кружевных нейлоновых трусиков, светлое платье, брюки, купальный костюм и ночная рубашка, пахнувшая теми же духами, в то время как все остальные вещи производили впечатление новых. На всякий случай он положил в машину и свой чемоданчик.
В кафе он входить не стал, а лишь заглянул туда через стекло. Молодая женщина выбирала пластинку у автоматического проигрывателя. Во рту она держала соленую соломку. Он обратил внимание, что ее темные очки были оптические и забавно отражали свет. Близорука. Лет двадцать пять. Правой рукой орудует неумело. Имеет мужа или любовника, способного на рождество подарить ей «тендерберд». Когда она нагнулась к проигрывателю, юбка плотно облегла ее тело — крепкое, упругое, с длинными ногами. Он заметил на юбке пятна грязи. У женщины была скромная прическа, небольшой ротик и такой же миниатюрный нос. Когда она заговорила с толстой рыжей покорительницей сердец, сидевшей за кассой, он по ее мимолетной грустной улыбке понял, что у нее какие-то неприятности или даже горе. Мужчины, иными словами, все посетители кафе, украдкой бросали на нее быстрые испытывающие взгляды, но она явно этого не замечала. Она слушала песенку Беко (Филипп тоже слышал ее на улице), в которой певец говорил ей, только ей, что она одна на своей звезде. Все ясно, ее бросил любовник и рана совсем свежая. Таких не обведешь вокруг пальца.
Она явно небогата, а если у нее водятся денежки, то недавно. Почему он так решил, он бы и сам не смог сказать. Может, потому, что богатая девушка не станет одна разгуливать по Шалону в одиннадцать часов вечера. Впрочем, а почему бы и не погулять? А может, он так решил потому, что слишком убого было содержимое ее чемодана. Как бы там ни было, но он понимал, что женщина такого рода не находка для него, с таким же успехом он может хоть сейчас остановить какой-нибудь грузовик.
Филипп вернулся к машине, сел в нее и стал ждать, включив приемник на радиостанцию «Европа-1» и закурив вторую сигарету. Он видел, как она вышла из кафе, пересекла улицу и, пройдя немного вперед, остановилась у парапета набережной. Пока она шла от реки к машине, он, глядя на ее своеобразную, но красивую походку, подумал, что она, должно быть, женщина степенная, рассудительная, но в то же время в ней было и что-то такое, что дало ему основание заключить, что наверняка под этим строгим костюмом таится страстная натура и поэтому ей от него не уйти.
Нельзя сказать, что она очень удивилась, открыв дверцу машины и услышав его упрек, что он слишком долго ждет ее. Она лишь слегка отпрянула, но тут же села за руль, одернула юбку, чтобы прикрыть колени, и, вынимая ключи из сумочки, и сказала:
— Только не говорите мне, что вы меня уже видели. Я больше не могу этого слышать.
У нее был поразительно четкий выговор, казалось, она отчеканивает каждый звук. Не придумав ничего лучшего, он ответил:
— Ладно, разговаривать будете потом. Знаете, который час?
Больше всего его смущали очки. Два овальных черных стекла, за которыми могло скрываться все что угодно. Ее голос прозвучал так же четко:
— Убирайтесь из моей машины.
— Это не ваша машина.
— Да?
— Я видел бумаги в ящичке.
Она пожала плечами и сказала:
— Будь так любезен, выйди. И поскорее.
— Я еду в Канны.
— Великолепно. Но все-таки вытряхивайся. Знаешь, что я сделаю, если ты не уберешься отсюда?
— Вы отвезете меня в Канны.
Она даже улыбнулась. Шлепнув его по ногам, чтобы он снял их со щитка — и он сел как полагается, — она бросила на него быстрый взгляд:
— Я не могу отвезти тебя в Канны.
— Меня это очень огорчает.
— Так чего тебе от меня надо?
— Чтобы ваша паршивая таратайка тронулась наконец, черт возьми.
Она кивнула, словно соглашаясь с ним, и включила зажигание. Но он знал, что это еще далеко не согласие. Его ничуть не удивило, когда она изящно развернулась на тротуаре и поехала к центру города. Он подумал, что она, пожалуй, способна, не говоря ни слова, отвезти его в полицейский участок. Впрочем, нет, это на нее не похоже.
Она свернула в какую-то узкую улочку налево и остановилась, чтобы прочитать табличку с ее названием. Она так вытянула свою тонкую шею, что встречная машина вынуждена была тоже остановиться. Водитель, приоткрыл дверцу, сказал ей какую-то глупость, но ни она, ни Филипп не ответили. Они проехали еще чуть дальше и остановились у неоновой вывески «Ренессанс». Ему пришла в голову одна мысль, правда, несколько наивная, но он ее отогнал.
— Мне остаться в машине или пойти с вами?
— Это твое дело. Хочешь — иди, не хочешь — оставайся.
Он вышел из машины и стал рядом с ней. Она была на голову ниже его. Он глупо сказал ей, что если она будет продолжать говорить ему «ты», то и он последует ее примеру.
— Попробуй. Я разбужу весь Макон.
— Но мы еще не в Маконе, а в Шалоне.
— Вот именно, но меня услышат и в Маконе.
Она подняла к нему свое лицо, оно выражало полное безразличие. Казалось, она готова ко всему, ее уже ничем не удивишь, но в то же время у Филиппа появилась уверенность — он почти физически ощущал это, — что уже сегодня ночью она окажется в его объятиях, он, наконец, увидит ее глаза и завтра они вместе будут нежиться на пляже. Она в нерешительности стояла перед застекленной дверью. Должно быть, она думала о том же, о чем и он, потому что вдруг, не спуская с него глаз, сказала изменившимся, каким-то усталым голосом: