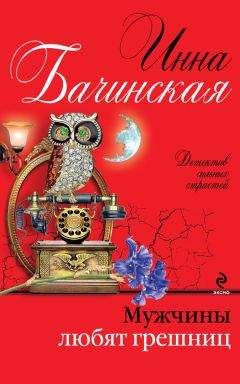Иногда мне казалось, что у нее не два глаза, как у всех людей, а четыре или шесть, и все смотрят в разные стороны. А еще мне казалось, что я начинаю смотреть на мир ее глазами.
Вот это все и держало нас вместе, и, наверное, это и было любовью.
Ох, Лиска, любовь моя…
Она нравилась Казимиру… А он ей? Она никогда не вспоминала о нем. Однажды мы собирались с ней на день рождения Казимира, и Лиска, которая обожала ходить в гости, сказала, что плохо себя чувствует. Она не смотрела мне в глаза, старательно изображала умирающую, не решив окончательно, что болит – то ли голова, то ли живот, то ли вообще ударилась локтем и не может пошевелить рукой в результате паралича. Я приказал ей не валять дурака и через пять минут быть готовой.
И тут вдруг я вспомнил… Открыл нам Казимир, я двинул прямиком на кухню, они замешкались в прихожей. Лена возилась с тарелками, я поцеловал ее, вручил цветы. Она спросила, ты один? Тут появился Казимир, и Лена впилась в него взглядом, и лицо у нее сделалось такое… такое… Кажется, она обрадовалась! Если это не мое досужее воображение – что можно помнить через столько лет? – я бы сказал, что на лице ее появилось выражение злобного торжества. А Казимир был не в духе, буркнул:
– Давайте за стол! Жрать охота!
И Лиска, обычно оживленная, сидела тихо, как мышь под веником, не поднимая глаз. Лена радостно щебетала. По заведенной ею семейной традиции она и Казимир сидели на разных концах длинного стола, и букет белых лилий с одуряющим запахом стоял в вазе на месте, в центре. После стакана водки Казимир с ненавистью схватил букет и запустил им в стену. Ваза опрокинулась, вода залила скатерть. Женщины вскрикнули. Я сгреб буяна и потащил в ванную, где сунул головой под холодную воду. Он вырывался и запускал словеса, которых набрался у себя на стройке. Потом затих, утерся полотенцем, некоторое время рассматривал себя в зеркале, корча страшные рожи. Потом сказал скучным голосом:
– Если бы ты только знал, Тем, до чего же мне все обрыдло! Это же просто невозможно, до чего! И как подумаю, что это все, финита… спрашивается, на хрен?
Зная неспокойный нрав Казимира, представляя себе, как он сравнивает их обеих – Лену и Алису, не может не сравнивать, как в конце концов протягивает к Лиске руки, потому что не в силах удержаться, да и не собирается – женщина брата никогда не была для него табу, я понимал, что он испытывал. Какого накала достигли его ревность и зависть – я на свободе с Лиской, а он в клетке с Леной! Лиска ничего мне не сказала – постеснялась, пожалела, должно быть…
Мне было невдомек, что мы оба оплакивали Лиску, заливая водкой обоюдное горе…
…В почтовом ящике лежал мятый, криво оторванный кусок оберточной бумаги с просьбой зайти на почту и забрать… что-то. Слово было нечитаемым.
Это оказался маленький жесткий пакет с компакт-диском в прозрачном футляре. Пусто белела этикетка – ни знака, ни слова. Я пожал плечами. Первым побуждением было швырнуть посылку в мусорное ведро, почему-то вспомнился ящик Пандоры из мифологии.
Никогда не читайте анонимок! Друзья не пишут анонимок, а читать написанное врагами – себе дороже.
Это был фильм, снятый любительской камерой. Не особенно умелый, с дрожащим, дерганым изображением, но оттого не менее достоверный. Скорее наоборот – достоверный именно в силу безыскусности. Лиска смотрела на меня с экрана – живая, радостная, в желтой маечке и джинсах. Знакомая серебряная подвеска – монетка-«чешуйка» семнадцатого века… Вот она побежала, смешно подпрыгивая, волосы разбросаны по плечам, размахивает руками – торчат острые локти. Приостановилась было на красный свет, оглянулась по сторонам и тут же рванула через дорогу наперерез машинам. Я невольно усмехнулся – пацанка! Почувствовав боль в глазах, понял, что плачу…
Туман. Передо мной дорога,
По ней привычно я бреду.
От будущего я немного,
Точнее – ничего не жду.
Не верю в милосердье Бога,
Не верю, что сгорю в аду.
Георгий ИвановОторопь, недоумение, боль… и вопросы, как слепая лошадь по кругу, снова и снова. Кто? Зачем снимал, почему ждал так долго? Семь лет. Долгих, беспощадных… Зачем? Чего он добивается? Кто? Зачем?
Я невольно оглянулся на окна – мне показалось, на меня смотрят. Пустые, темные, как слепые глаза, окна. Всплыло длинное худое лицо Колдуна, уставились, не моргая, впалые угли глаз – я неосознанно связал его появление и фильм… Зачем? Причинить боль? Расковырять, потыкать острым, насыпать соли и перца? Отомстить? За что? Вряд ли… это месть. Он-то должен знать, что я не виноват. Он же все знает… Тогда… что? Чего он хочет? Чего добивается? Зачем вытаскивает это на свет?
А он ли это? Я представил, как он крадется за Лиской, укрываясь в толпе, за деревьями, машинами, сгибаясь в три погибели, ныряя в укрытия… Картинки не получилось – ему здесь не хватало величия и статики. Я не мог вообразить Колдуна суетящимся, вертким, прячущимся, в моем сознании он навсегда отпечатался неподвижно сидящим в старинном кресле, с немигающим змеиным взглядом, с длинными костлявыми пальцами рук, мертво лежащих на столе.
Кто? Кто решился, кто посмел? Снять, выждать семь лет и прислать? Зачем?
На экране полосы, шевеление серой массы, пузырьки газа. В ушах треск и шорох. Я запустил компакт снова. И снова смеющееся лицо Лиски, торопливый шаг, почти бег, тонкие руки, длинные волосы, желтая маечка и голубые джинсы с разноцветными камешками. Живая, смотрит в глаза, губы шевелятся – что-то сказала, она разговаривала сама с собой, вечно бормотала что-то, – засмеялась. Шум толпы. Динамика, движение, полет, дерганые рваные кадры – куски улицы (я узнал ее – Пятницкая), трамваев, деревьев, толпы. Четыре минуты. Всего четыре минуты. И снова пустота. Улетела, исчезла, растворилась в небытии.
Казимир? Нет! Слишком… я пытался найти слово… Слишком тонко! Брат мог дать в морду, выматериться – действовать спонтанно, а здесь другое. Здесь – невнятный замысел, дальнобойный прицел, ускользающий смысл. А с другой стороны, знаю ли я Казимира? Он способен увести невесту, не испытывая угрызений совести, соблазнить чужую подругу – и все втихаря, похлопывая дружески по плечу, заглядывая в глаза и нащупывая под столом коленом колено чужой женщины. Одержимый злобным азартом, вечный соперник – мой брат, маленький капризный Казимир, тянущий пакостные ручонки к вещам старшего брата. Допустим, снять фильм он мог, допустим… Допустим, он так увлекся, что сошел с ума и ходил следом…
Нет! Казимир действовал бы по-другому. У него отработанная схема и отработанные приемы. Цветы, телефонные звонки, перехваты на улице, яд в уши – мелкие гадости обо мне, лепет о большой любви, глаза больной собаки, робкие касания горячих потных рук, напор, приставучесть, если сильно приспичит – слезы в глазах… Это – Казимир. Он хвастался, что ни одна – слышите, ни одна! – не устоит против подобного набора. Скотина. Сукин сын. Я закрыл глаза, испытывая такую ненависть, что, если бы брат был здесь, рядом, я мог бы его… убить… запросто! Фу, глупость! Прекрати, приказал я себе. Неврастеник, психопат… успокойся наконец!
Все в прошлом, у тебя нет ничего из того, что могло бы заинтересовать младшего брата. Ни игрушек, ни женщин. У него тоже жизнь не сахар – работа собачья, в семье чер-те что… Отец сказал когда-то: наступит время, и ты будешь ему благодарен. Наступило. Отец был прав. Каждый раз, глядя на Лену, я испытываю благодарность Казимиру. Будь брат на моем месте, он не преминул бы повторять мне об этом при каждом удобном случае, но я великодушен и радуюсь тайно, в душе. Мне пришло в голову, что Казимир все понимает и злится, но, увы… он сам напросился. Это тот нечастый случай, когда воздалось по заслугам. Мой дед – знаток фольклора не из книжек, а из жизни – однажды сказал, а я не понял по малости лет, но тем не менее запомнил: «В чужую бабу черт меду кладет». И Лена, и Лиска «чужие бабы». Одну он увел у меня, другую пытался увести…
Я закрыл лицо руками. Перестань. Это не он. И точка. Кино не его хобби, да и не стал бы он ворошить это сейчас…
Кто? Лешка Добродеев? Он знал о нашем романе, этот любитель подглядывать в замочные скважины, и вполне мог таскаться следом и снимать… Зачем? Незачем. Вряд ли. Лиска – не прима городского театра. А потом, Лешка – профессионал, а фильм – любительский, снимавший, похоже, держал камеру в руках первый раз.
Кто? Кто-то из бывших друзей Лиски? Из тех, что были до меня? А так ли это важно – кто? Важнее, зачем! Зачем? Чего он добивается?
Короче, я сидел, пил водку и крутил четырехминутный фильм снова и снова. И снова бежала, оттопырив острые локти, Лиска, снова развевались длинные легкие волосы, и каждый раз я видел какую-то новую деталь, маленькую, ускользнувшую прежде. Пластмассовая бабочка в волосах, блестящая серебряная полоска браслета на запястье, светлая прядка, упавшая на глаза, синяк чуть повыше локтя на правой руке… Мне казалось, я помню этот синяк – Лиска полезла под стол за упавшим мобильником, стукнулась, зашипела от боли. Я даже помню, когда это было… летом! За месяц до ее нелепой гибели. Я подул на ее покрасневшую руку, поцеловал, а к вечеру там образовался синяк. У нее вечно были синяки…