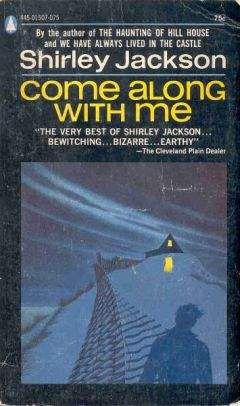дня дяде Джулиану стало лучше, и он сидел на теплом послеполуденном солнышке, сложив на коленях руки и слегка задремывая. Я лежала возле него на мраморной скамье, на которой любила сидеть когда-то наша мама, а Констанс, стоя на коленях, возилась в грязной земле, погрузив в нее руки почти по локоть, будто сама стала растением; она месила эту землю, пропускала ее меж пальцев и хватала растения за корни.
– Прекрасное было утро, – сказал дядя Джулиан, и слова сыпались и сыпались из него, одно за другим. – Чудесное солнечное утро, и никто из них не догадывался, что это было их последнее утро. Она спустилась вниз первой, моя племянница Констанс. Я проснулся и услышал, как она возится на кухне – тогда я спал наверху; в те дни я мог подниматься наверх и спал с моей женой в нашей комнате – и я решил, вот какое чудесное утро, кто бы мог подумать, что оно станет для них последним. Потом я услышал племянника – нет, это был мой брат; брат спустился вслед за Констанс. Я слышал, как он насвистывал. Констанс?
– Да?
– Что за мотив всегда насвистывал мой брат, как всегда, мимо нот?
Констанс подумала, не отнимая рук от земли, потом стала тихо напевать, а я обмерла.
– Ну, конечно. У меня никогда не было слуха; я могу вспомнить, как люди выглядели, что говорили и что делали, но вот что пели – никогда. Это был мой брат, вот кто спустился вслед за Констанс, и ему, разумеется, никогда не было дела, если он разбудит кого своим шумом и насвистыванием. Никогда ему не было дела, что я, может быть, еще сплю – хотя вышло так, что я уже не спал. – Дядя Джулиан вздохнул; поднял голову и с любопытством оглядел наш сад. – Он не догадывался, что это его последнее утро на земле. Наверное, если бы догадывался, вел бы себя потише. Я слышал его на кухне с Констанс, и я сказал жене – она тоже не спала; ее он тоже разбудил своим шумом – я сказал жене, что ей лучше одеться; в конце концов, мы живем под одной крышей с братом и его женой, и мы не должны забывать показывать им, как мы их любим и горим желанием помочь, чем можем; оденься, говорю я, и иди на кухню к Констанс. Она сделала, как я ей велел; наши жены всегда делали то, что им велели, хотя в то утро моя невестка нежилась в постели допоздна; вероятно, у нее-то как раз было предчувствие, вот и решила понежиться напоследок, пока можно. Я слышал их всех. Я слышал, как сошел вниз мальчик. Я подумывал встать и одеться. Констанс?
– Да, дядя Джулиан?
– Ты же знаешь, в те дни я мог одеваться сам, хотя это был последний день. И я мог ходить куда хотел, и одеваться, и есть сам, и мне не было больно. В те дни я хорошо спал, как и полагается сильному мужчине. Я был немолод, но силен, и я хорошо спал и мог одеваться сам.
– Хочешь, я принесу плед и укрою тебе колени?
– Нет, спасибо, дорогая. Ты всегда была мне хорошей племянницей, хотя есть основания заподозрить, что ты была непослушной дочерью. Моя невестка сошла вниз прежде меня. На завтрак у нас были блинчики, маленькие, тонкие и круглые блинчики, и брат съел глазунью из двух яиц, и моя жена – хотя я не поощрял ее чревоугодие, поскольку мы жили с братом и его семьей, – взяла щедрую порцию колбасок. Домашние колбаски, которые приготовила Констанс. Констанс?
– Да, дядя Джулиан?
– Думаю, я позволил бы ей съесть еще больше, если бы знал, что это ее последний завтрак. Теперь, когда я об этом думаю, меня удивляет, что никто не заподозрил, что это их последнее утро; иначе они не пожалели бы колбасок для моей жены. Брат иногда делал замечания насчет того, что мы съели, я и моя жена. Он был человек справедливый и никогда не урезал порции, если мы не брали слишком много. В то утро он следил, как моя жена берет колбаски, Констанс! Я видел, что он следит за ней. Мы брали поменьше, чтобы ему угодить. Он ел блинчики, яичницу и колбасу, но я чувствовал, что он собирается устроить выговор моей жене, Констанс. Мальчик же просто объедался. Я рад, что в тот день у нас был особенно вкусный завтрак.
– На следующей неделе я могу сделать для тебя колбаски, дядя Джулиан. Думаю, колбаски не повредят твоему здоровью, если ты съешь совсем чуть-чуть.
– Брат никогда не жалел для нас еды, если мы ели слишком много. Моя жена помогла вымыть посуду.
– Я была ей очень благодарна.
– Возможно, она могла бы делать гораздо больше, как я теперь понимаю. Она развлекала мою невестку, чинила нашу одежду и по утрам помогала мыть тарелки, но мне кажется, что брат думал, что она могла бы делать гораздо больше. После завтрака он пошел повидаться по делу с одним человеком.
– Он хотел выстроить беседку. У него был план построить беседку, увитую виноградом.
– Мне жаль. Сейчас мы могли бы лакомиться джемом из собственного винограда. После его ухода мне становилось гораздо проще поддерживать беседу. Помню, что в то утро я занимал беседой наших дам, и мы сидели здесь, в саду. Мы говорили о музыке; моя жена была очень музыкальна, хотя никогда не училась играть ни на каком музыкальном инструменте. У моей невестки было очень мягкое туше [1]; всегда говорили, что у нее мягкое туше, и она обычно играла по вечерам. Не в тот вечер, конечно. В тот вечер она не могла играть. Но в то утро мы думали, что она сыграет вечером, как заведено. Ты помнишь, Констанс, что в то утро в саду я был особенно в ударе?
– Я полола овощную грядку, – ответила Констанс. – Я слышала, как вы все смеялись.
– Я был в ударе, и сейчас я счастлив, что смог их повеселить как следует. – Некоторое время он молчал, беспокойно сплетая и расплетая руки. Я хотела быть к нему добрее, но я не могла заставить его руки лечь спокойно, да и принести ему ничего не могла, поэтому я лежала смирно и слушала, как он говорит. Констанс разглядывала какой-то листик и хмурилась; тени мягко ложились на лужайку.
– Мальчик куда-то убежал, – наконец сказал дядя Джулиан печальным постаревшим голосом. – Мальчик куда-то убежал – кажется, ловить рыбу? Констанс?
– Он начал карабкаться на каштан.
– Помню. Разумеется, дорогая. Я помню все и очень отчетливо, и я все записал. Это было самое последнее утро, и я не хочу ничего забыть. Он забрался на каштан, на самую