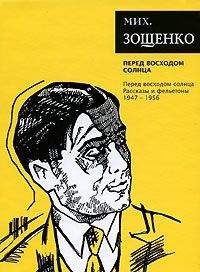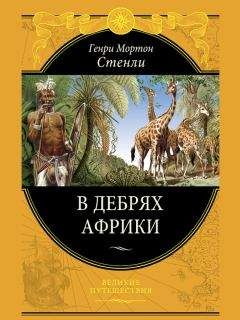Автостарушка, съехав на скоростную трассу, обрела второе дыхание; мчалась со злой напористостью и убежденностью. Я тоже вновь обретал боевой дух. Весь летний, сказочный мир, все чудеса, в нем происходящие, оставались за спиной, таяли в ночном пространстве. Из мира, где не было теней, я ехал в мир теней. По долгу своему и убеждению. И не будем больше об этом.
И последнее: где же алмаз? Вполне закономерный вопрос. Алмазы на дороге не валяются, их надо беречь, как воду, газ и электричество. Поначалу я хотел упрятать птичку Феникс в свою секретную лежку, однако оттуда птаха могла вылететь. Не по своей воле. Тогда где же он, хрустально-кристальный? Помните, я плескался, как утка, у колодца? Я тот человек, который ничего не делает просто так. Надеюсь, я выразился вполне определенно?
Что же дальше?
Город встречал мелким, клейким дождиком. Хорошая погода для убийств… И время для убийств удобное: между восьмью и девятью часами. По Гринвичу (это я шучу). Нервничаю и поэтому позволяю себе подобное.
Дождь усиливался — за боковым стеклом мелькнул освещенный прожекторами памятник Поэту-глашатаю, лучшему другу чекистов. Потом мелькнул ещё один памятник. Бронзовый курчавый Поэт с понурой обреченностью смотрел вниз на суетливых и мелких соотечественников. И наконец я увидел третий памятник. Лучшему другу поэтов и всего остального населения. Первый чекист железно и строго смотрел в ночь.
Я припарковал машину у проходного двора. Я находился в центре города, но и здесь встречаются места, где не ступала нога человека. Трусцой пробежал к нежилому строению. По разваливающимся лестницам добрался до чердака. Было мертво, сухо и пыльно. Я нашел бойницу слухового окна; из него открывался прекрасный вид на площадь, на памятник, на здание. В учреждении светились окна — трудовой напряженный день продолжался. Я знал, что мои коллеги любят работать до изнеможения. Своих же подследственных.
Из чемоданчика я вытащил детали оптической винтовки. Смонтировал их в боеспособную пукалку. Долго (минуту-час-вечность?) ждал, когда зампредседателя соизволит покинуть рабочее место и поймать бугристым, сократовским лбом красную точку смерти. Ему повезло — я подарил врагу легкую смерть. Пуля впилась в лазерную отметку и мгновенно разрушила лобную кость… Кровь как краска… Впрочем, это уже не имело никакого значения… Шел дождь, это было главное. Он смывал все следы, и была надежда, что утро будет чистым, солнечным; говорят, что тот, кто по утрам умывается дождевой водой, будет жить сто лет. Жаль, что у меня нет бочки с дождевой водой.
Сто лет — это много или мало? Не знаю. Мне бы хватило, чтобы увидеть, как ремонтируют дороги и выводят из обращения дураков. Не знаю, как насчет дураков, а вот дороги… Эх, дороги!.. Моя автостарушка не выдержала дорожных издевательств: скончалась, родная, на семнадцатом километре скоростного, правительственного шоссе, превратившись в жестянку. Я не сразу покинул ее; съехав в кювет под защиту кустов, я подремал для будущей бодрости. И только под утро, когда по шоссе бесшумно затопали светлые слоны тумана, я выбрался из машины. Похлопал на прощание автостаруху по капоту и отправился в путь. Куда же имел честь идти? Шел я на государственную дачу. Что само по себе уже было смешным. Я хотел передать пакет с шоколадными сургучами лично в руки тому, кто подавал надежды на честного человека и гражданина своей Родины. Что тоже было само по себе нелепым и глупым. Не буду уточнять, что именно было нелепым. Мое решение передать пакет с информацией? Или что-то другое?
Я очень долго шел через лес. Не верилось, что такие девственные леса могут сохраниться рядом с человеком. Потом я увидел: там, за деревьями, в мареве, пласталось огромное поле… Картофельное поле моей Родины… Я брел по нему, свежевспаханному и мокрому от дождя… Жирный чернозем прилипал к моим башмакам, и со стороны, наверное, казалось, что человек бредет по незнакомой планете. Но это была моя планета, хотя этого я ещё не понимал…
Я услышал тугой, напряженный гул автомобильных моторов; увидел — от дачи отъезжает правительственный кортеж из пяти машин.
Я закричал. Зачем? Я закричал, разрывая голосовые связки. И побежал наперерез. Зачем? Я месил чернозем и кричал в попытке обратить на себя внимание. Неужели я забыл инструкцию телохранителей? Они имели полное право пристрелить меня как объект, представляющий повышенную опасность для слуги народа и его бесценной жизни.
Я упал лицом в мокрый чернозем, как падал в детстве на дорогу после дождя… Поднявшись, снова попытался бежать. Зачем?
Автомобили набирали скорость. И шли по трассе в сиянии солнечного света. Но вдруг я увидел тени от этих машин. Тени, точно огромные крылья хищных птиц, летели над картофельным, родным для меня полем…
И я все понял. Я понял, что останусь на этом поле. И буду жить. Другого мне не дано.
Потом — как озарение. Я увидел салон последнего автомобиля. В нем молодые, крепкие и уверенные люди. Эти молодые люди, мне знакомые (Орешко, например), смотрят в мою сторону… И не узнают. Им по инструкции не положено узнавать странного, грязного, нелепого, орущего субъекта, мотающегося по черноземной целине… Я даже слышу их голоса:
— Уже готов, командир. С утра пораньше…
— Кажется, хочет, чтобы мы подвезли до города?
— Живет своей содержательной жизнью.
— Да-а-а, загадочный русский народ!
Потом правительственный кортеж ушел за горизонт. А был ли он?.. Или это игра теней? Не знаю.
Я опустился на колени. Под рукой оказалась родная планета. Она держала меня грубой, зримой, черноземной силой. Я принялся ладонями черпать дождевую воду из лунки и пить ее… Пить…
Я был один в поле и, кажется, жил.
Итак, время подводить итоги. Неутешительные.
Когда-то, в другой жизни, я щелкал школьные задачки как орехи. Что же теперь? 15 — 9 = 6. Пример прост, если не знать, конечно, что скрывается за этими цифрами.
Военно-полевой трибунал влепил мне за мои же прегрешения пятнадцать лет зоны. Много это или нет? Для вечности — это тьфу, мелочь, мгновение. Для меня, гвардии рядового жизни, признаюсь, многовато. Хотя жаловаться грех — шел я по расстрельной статье 102 УК (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Как говорится: повезло. Наверное, стране требовались дополнительные рабочие ресурсы, и меня, будущего лесоруба, пожалели и отправили на трудовой фронт. На пятнадцать годков.
И я закрылся, как моллюск в раковине. На девять долгих лет. У меня были хорошие учителя по психологии и по школе выживания в экстремальных условиях. Впрочем, зона была в каком-то смысле элитарной. Для спецконтингента, коим являлись грешники из всевозможных правозаступнических органов. Здесь я познакомился с удивительными и занимательными фигурами, деяния которых подпадали под все статьи УК. От получения взятки до оскорбления подчиненным начальника и начальником подчиненного. Многие на сибирском курорте курвились, превращались в шушар-осведомителей и гнид-предателей. Надеюсь, мой язык доступен широким массам населения? С некоторыми членами Семьи я, однако, сдружился. Известно, что зековская дружба самая крепкая и надежная. После боевой. И поэтому растительная жизнь в вертухайском дендрарии была вполне терпима и возможна. Жить да жить. Да случились странные, загадочные, полудикие события на воле.
Союз нерушимый республик свободных, как известно, расцветал буйным и пышным цветом великой Римской империи эпохи её распада. Однако что-то случилось в политической природе. У нас, в империи. Появились заметные признаки тления, зловония и легкого недоумения у народонаселения, не понимающего, что же на самом деле происходит в кремлевско-урюпинских коридорах власти. А там, вероятно, начинали бродить первые призраки капитализма.
С хищническим оскалом.
В зоне тоже начали проявляться первые признаки демократических, простите, преобразований. К Хозяину стали активно прибывать партиями высокопоставленные милицейские чины: майоры — подполковники — полковники, и наконец, словно алмаз без огранки, явился генерал Бревнов, зять бывшего выдающегося политического деятеля всех времен, безвременно скончавшегося, и весьма неудачно — в День милиции. То есть праздник был испорчен. И не только праздник. Судьба повернулась ко многим не лучшей, скажем так, стороной. И когда миролюбивые зеки увидели в своих малопроизводительных, промерзлых рядах генерала Бревнова, который, как и все, ежился в вельможном бушлате, то пришло понимание: процесс необратим. Надо ждать теплых ветров перемен. И они скоро задули, эти ветры. И так, что крепкий лагерно-хозяйственный механизм развалился вместе со страной. Три августовских дня (подозрительно провокационных) сменили одних слуг народа на других. Оковы пали — и свобода… Свобода?.. Из одной зоны в другую?..