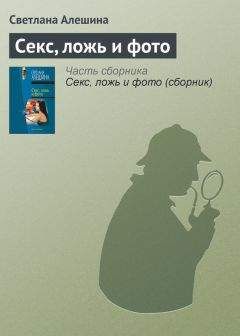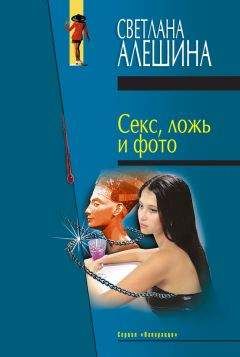– Я обещаю, что дражайшие супруги клиентов, координаты или по крайней мере имена и фамилии которых тебе известны, ничего не узнают о вредной привычке своих мужей, – я старалась говорить четко и ровно, но в моем голосе все еще кипело негодование, – напиши.
Я посмотрела на нее словно змея, которая хочет загипнотизировать лягушку.
– Ладно, – вытерла слезы Рита.
Она принялась выводить дрожащей рукой буквы, а мы с Александром, переглянувшись, задумались каждый о своем.
– Вот. – Она положила передо мной листок.
Я пробежала его глазами. Фамилия Шилкина присутствовала в списке наряду с Бартником, Колчиным, Калистратовым, Магатаевым и Долгих. Адресов не было, но напротив трех фамилий было указано место работы.
– И все-таки ты не права, – неожиданно сказал Александр, глядя на меня, – Рита ведь лишится клиентов. Кому охота подвергаться допросу?
– Я не стану называть Ритиного имени. Откуда они узнают, что это именно она навела меня на их след?
– Они просто прекратят наведываться в «Гриву», – стоял на своем Александр.
– Ты полагаешь, что они только здесь ищут развлечений?
– Ну, – недовольно посмотрел на меня Шилкин, – тебе виднее.
– Спасибо, Рита. – Я благодарно пожала ее узкую детскую ручку.
– Да ладно уж, – смутилась она.
– Подвезу тебя до дома, и все, – твердо сказала я Шилкину, когда мы отчалили в моей «Ладе» от «Гривы».
На меня раздражающе подействовала его трогательная забота о Ритиной клиентуре. Александр сидел насупившись и глядя перед собой. Будто меня и не было рядом.
– И вообще, – злилась я, – мог бы приобрести машину, чтобы по крайней мере избавить меня от работы таксиста.
– Можешь высадить меня, я не возражаю.
Черт, несмотря на все его улыбочки и обаяние, была в нем какая-то жесткость, какая-то подростковая строптивость.
– Отвезу уж, – великодушно сказала я, – в последний раз.
Он повернулся ко мне.
– Не пойму, чего ты бесишься? – своим дурацким снисходительным тоном произнес он.
– Я совершенно спокойна, – уверенно сказала я, начиная урок аутотренинга.
Я красива, я спокойна, я великолепна, я ослепительна, я умна, я…
– Не заметил что-то, – упрямо продолжал он действовать мне на нервы.
В его голосе я уловила насмешку. А нехай его! Я резко затормозила и скомандовала:
– Выходи!
Ну, каково тебе, самовлюбленный эгоист?
Вместо того чтобы открыть дверцу, Александр быстро повернулся ко мне и крепко обнял, прижимаясь к моему рту сухими горячими губами. Я едва не задохнулась. Не дав мне опомниться, Шилкин принялся покрывать мое лицо и волосы быстрыми, как укусы, поцелуями. Я не сопротивлялась. По телу разлилось блаженное томление. Веки дремотно сомкнулись, и когда его нетерпеливая жадная рука скользнула по моему колену к бедру, а потом затаилась на секунду между ног, я в ожидании откинулась на спинку сиденья.
…Когда я наконец пришла в себя, Александр спокойно отстранился и глухо произнес:
– Все еще хочешь меня высадить?
В салоне повисла неловкая пауза. Все, чего я хотела, – это лечь с ним немедленно в постель.
– А ты все еще хочешь меня? – страстно посмотрела я на него.
– Поехали, устроим вакханалию, – плотоядно улыбнулся он, – ты надолго это запомнишь.
– Не сомневаюсь. – Я надавила на газ, и мы помчались по гулкому ночному лабиринту города, лежащего в руинах мраморной зимы.
* * *
Ночь пронеслась как одно мгновение, мгновение дикого исступленного восторга. Сгусток энергии, шаровая молния, спрессовавшая в огненное целое два потных гибких тела. Мы творили такое! В нашей лихорадочной жадности, в нашем неистовом обладании друг другом было что-то от предсмертных конвульсий, от судорожного хватания ртом воздуха человеком, которого душат. Уф! Я интуитивно потрогала шею, открыла глаза и увидела над собой белый потолок и зажженный софит. Александр, одетый в вельветовые брюки и коричневую рубашку, фотографировал меня.
И если вчера меня ласкали его руки, то сегодня – его глаза. В них не было страсти, была лишь какая-то смутная грусть и томность. Увидев, что я не сплю, он нежно улыбнулся мне.
– Я позволил себе маленькую нескромность, – с оттенком артистического жеманства проговорил он, – не могу устоять перед желанием запечатлеть красоту.
Я, честно говоря, почувствовала себя не в свой тарелке. Возникло неприятное ощущение, будто своевольный творец помимо моего желания превращает меня из живого человека в предмет эстетического наслаждения. Пусть эстетического, пусть наслаждения, но все равно – в предмет! Глаза Александра с их отстраненной томностью уравнивали меня с красивой вазой или лампой. Я поежилась.
– Озябла? – заботливо спросил он.
– Немного. Хочешь и меня присовокупить к своей гениальной коллекции? – насмешливо сказала я. – Она все разрастается и разрастается. Не будешь ли ты так любезен подать мне мою одежду?
Он был любезен: положил мое белье, юбку и пиджак на кровать и отошел к ножке софита. Его рефлексивный прищур мэтра начал меня бесить. Стиснув зубы, я принялась одеваться. Но Александр не бросил свою затею. Он продолжал меня фотографировать. Сначала – в трусиках, потом – в маечке, потом – в чулках.
Я старалась игнорировать его «происки», но у меня не получалось. Горечь утреннего разочарования незаметно примешивалась к впечатлениям сладкой бредовой ночи.
– А когда ты успел сделать эти фото? – показала я на красивые черно-белые и цветные фотографии, на которых были запечатлены Дюкова и та самая Алла, с которой мне не дал вчера пообщаться Брусков. Алла была в шальварах, широком, затканном серебром лифе и пепельно-голубой прозрачной накидке. Она сидела на пестрых подушках на фоне лазурной стены. Восточный мотив. Оксана, полулежа на диване с веером в руках, изображала девицу двадцатых годов. Круглое декольте открывало мраморно-белую шею и руки. Тяжелые бусы, прилизанная волна отведенной набок челки и сочный, но не вульгарный макияж дополняли впечатление.
– И не дрогнуло у тебя сердце, когда ты занимался проявкой? – ледяным тоном сказала я.
– Нельзя ли тебя попросить, – проигнорировав мой вопрос, в русле творческого эгоизма попросил он, – немного откинуться назад и раздвинуть ноги…
Когда он произнес последнюю реплику, я, надо признаться, почувствовала возбуждение и вместо того, чтобы наотрез отказаться раздвигать ноги и вообще делать то, что ему хочется, погладила себя по бедрам и призывно взглянула на него. Но его лицо хранило холодный деловой нейтралитет. Однако это продолжалось недолго. Вскоре по безупречно выбритому лицу Шилкина бледным сиянием вечно прекрасного стало разливаться упоение возвышающей силой искусства. Томная поволока в его глазах растаяла, и на смену ей пришла почти хирургическая ясность точного расчета.
– Вот так, – бубнил он себе под нос, крутя и нацеливая на меня второй софит.
Захваченный красотой мгновения, он, как мне казалось, крикни я сейчас или захохочи, не услышал бы меня.
– Саша, – намеренно громко сказала я, – мне пора.
Но Саша, как я и предполагала, находился в сладком плену иллюзии.
– Ну я же тебя просил, – обиженно воскликнул он, когда я натянула на себя блузку и юбку.
Он подошел ко мне и принялся расстегивать блузку. Его рука задержалась на моей правой груди, мягко обхватила ее. Сердце у меня забилось. Но рука уже соскользнула. Шилкин быстро занял свою «боевую» позицию и стал щелкать фотоаппаратом.
– Я ухожу, – крикнула я, застегивая блузку.
– А завтракать? – удивленно посмотрел на меня он.
– На работе позавтракаю, – резко сказала я.
– Что опять на тебя нашло?
– Мне пора. – Я надела пиджак и, чмокнув Александра в щеку, пошла к лестнице, – не беспокойся, я знаю, как дверь открывается.
Он пожал плечами. Я думала, что он меня остановит, швырнет на кровать в порыве неудержимой страсти, но он только немного растерянно и обиженно смотрел мне вслед.
– Ключ от нижнего замка в кармане моего пальто, – крикнул он, не подходя к перилам, – и не забудь, в пять в «Арбате».
– О'кей. – Я нашла на вешалке его пальто и принялась шарить по карманам.
Так, портмоне, платок, авторучка… А вот и ключи. Из любопытства я открыла портмоне и заглянула в его отделения. Никаких фото, никакой лирики. Деньги, несколько визиток. Одну из них я решила прикарманить. А вот водительское удостоверение на имя Шилкина…
– Нашла? – донесся до меня усиленный пустотой холла голос Александра.
– А как же!
Я захлопнула за собой дверь, потом калитку и очутилась перед своей «Ладой». Черт, ни гаража, ни навеса. Машина была покрыта тонкой белой пленкой снежинок. Я смела снег с окон, села за руль и запустила двигатель. Закурила. О! Как непередаваемо сладка была первая затяжка. С ней ко мне вернулась попранная эмансипированность и спокойная деловитость. Нет в мире ничего надежней, ничего прекрасней, ничего блаженней этого звонкого, как хрусталь, морозного зимнего утра, сознания собственного одиночества, неисповедимого, как пути господни, сладкого, как «халва Шираза». Здорово Бродский сказал!