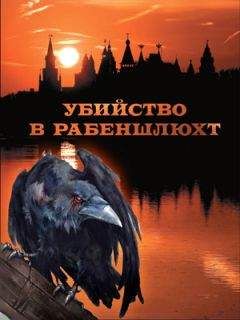— А ведь этакую махину случайно трудно перевернуть, — заметил, наконец, священник.
— У меня такая же во дворе, — отозвался Рудольф, отрываясь от листка, на котором что-то записывал карандашом. — Перевернуть несложно. Тем более, он на нее с размаху налетел. Споткнулся о корень.
— Хм… — отец Иеремия повертел головой. — Я вижу тут только один корень. Но он…
Не договорив, дядя принялся мерить расстояние от бочки до толстого кривого корня, торчавшего из земли, словно голое колено. Получилось семь полных шагов и еще чуть-чуть. И чего он сомневается? Вон как от доктора вином разило — в таком состоянии кто хочешь и без корня запросто споткнется. Иоганн подхватил ведро и понес мимо летней наковальни со странным оружием — тем самым, которым убили Феликса — в помещение кузницы. Заглянул учителю через плечо: Рудольф уже полстраницы исписал мелким каллиграфическим почерком. Юноша завистливо вздохнул: нет, так красиво писать ему никогда не научиться. Зашел в помещение, отыскал торчавший из стены железный крюк и повесил ведро.
— Странно, очень странно… — донеслось до него с улицы. — А что, разве доктор Филипп бежал, когда споткнулся?
— Шутить изволите? — хихикнул учитель. — Наш Парацельс разве что в уборную может побежать. Да и то, если уж сильно припечет.
И тут до Иоганна дошло! Даже учитель еще ничего не понял, а он… Ай да дядя! Ведь как точно он подметил: если человек шел и споткнулся о корень, то упал бы, не дотянувшись до бочки. Ну, никак бы он ее не перевернул. А это значит…. это значит, что доктор Филипп разлил двадцать ведер воды специально! Но для чего?
Иоганн вынырнул из кузницы и посмотрел на бочку. Если ее опрокинуть, то все место убийства зальет водой, так? Грунт здесь утоптанный, твердый, не то, что на песчаной дороге. Следы… Да, точно! Следы могли только в пыли остаться. И всю эту пыль вместе со следами убийцы смыло водой. Ай да доктор! Но причем тут он?
Тем временем отец Иеремия, оставив бочку, подошел к летней наковальне и медленно обошел вокруг нее. На наковальне лежало орудие убийства: блестящее лезвие — полукруглое с одной стороны и весьма причудливой формы с другой, оно заканчивалось тонким, остро отточенным клинком и было надето на длинное, древко. Священник осторожно взял за край орудие убийства и приподнял его.
— А оно легче, чем кажется, — сказал дядя. — Это ведь какое-то оружие, так?
— Алебарда, — отозвался учитель, не отрываясь от своих записок. — Лет двести назад ими сражались на войне. Но эта — почти не настоящая, церемониальная. Ее использовали для торжественных процессий и приёмов. Посмотрите, какая она маленькая. Словно игрушечная.
Священник печально вздохнул и положил алебарду обратно на наковальню.
— Прости нас, грешных, Господи, — пробормотал он. — Такой вот игрушкой человека убили. Оружие для торжеств… Славим смерть, когда нужно славить жизнь… Перепуталось всё в наших головах, Господи.
Некоторое время он отрешенно молчал, едва заметно шевеля губами. Читает молитву, догадался Иоганн. Он посмотрел на алебарду с засохшими пятнами крови на острие и перекрестился. Неожиданно до него дошло, что Феликса больше нет. Вообще. Больше. Нет. Что-то тяжелое легло на сердце: каким бы плохим ни был Феликс, но смерть…
А дядя вновь принялся за алебарду. Он попросил Иоганна взять ее в руки и медленно, осторожно скопировать удар убийцы. Только вместо живого человека перед юношей был столб, подпирающий навес. На лице отца Иеремии легко угадывалось сомнение, и теперь, после случая с бочкой, Иоганн решил, что раз дядя сомневается, значит, есть тому причина. А если не говорит прямо… так вон учитель на скамейке сидит. Останутся одни — обязательно скажет. Рудольф уже закончил писать свой отчет и теперь снова курил, пуская колечки дыма и комментируя происходящее. Комментарии были шутливыми и даже слегка язвительными. Иоганн морщился, но терпел. Не до Рудольфа сейчас.
Закончив с алебардой, дядя принялся выспрашивать у Рудольфа про кузнеца Генриха, про то, кто заказывал у него такие диковинные вещи, но ничего нового не услышал. Учитель не сильно интересовался делами кузнеца. Лишь несколько раз завистливо повторил, что у Генриха наверняка водятся немалые денежки. Только, мол, дурак он, Генрих, не знает, как ими правильно распорядиться. И чужих советов не слушает.
Затем Иоганн, наконец, показал дяде найденный шнурок. Отец Иеремия находке нисколько не удивился.
— Как вы думаете, господин учитель, — спросил он. — Могли Феликса убить из-за денег?
В ответ Рудольф лишь пожал плечами.
— Только идиоты из-за денег убивают, — заявил он. — По крайней мере, из-за таких денег. Сколько там было-то? На жизнь, как у царицы Савской, все одно не хватит, а так… — Он махнул рукой.
— Для некоторых и один золотой состояние, — вздохнул священник. Положил шнурок на место — пусть всё лежит, как было, и задумчиво посмотрел по сторонам.
— А вы знаете, — неожиданно оживился учитель. — А ведь верно вы заметили, святой отец! Тот, у кого свой кусок хлеба есть, не позарится на несколько золотых. А вот тот, у кого ничего…
И Рудольф многозначительно посмотрел на священника. Но лицо отца Иеремии осталось непроницаемым: то ли понял намек, то ли нет… Некоторое время он о чем-то размышлял, затем повернулся к юноше и попросил:
— Иоганн, мальчик мой, слазай-ка за забор, обойди вокруг кузницу. Да не торопись, внимательно под ноги смотри, не найдешь ли чего.
Опять шушукаться между собой будут, обиженно решил Иоганн. Что он, маленький что ли, чтобы его отсылать? Да хоть бы прямо сказал: мол, нам поговорить нужно, а то… Иоганн надул губы и медленно, не торопясь, побрел к забору. Смотреть под ноги? Хорошо, будет под ноги смотреть. Вон букашка зеленая по травинке ползет, не ее ли вы меня послали искать, дядюшка? Сейчас я вам целую горсть таких букашек принесу!
Юноша дошел до забора — немного правее, чем в том месте, откуда он видел учителя — и перемахнул через невысокую ограду. Обернулся к кузнице — дядя действительно что-то выговаривал Рудольфу. Ничего, Иоганн это запомнит. Вот пусть сам теперь о велосипедных следах догадывается! Отвернулся и пошел вдоль забора, пробираясь между густым кустарником по единственно возможному пути. И почти сразу наступил на что-то мягкое. Сделал шаг назад, нагнулся …. На земле лежал брошенный кем-то кошелек. Но как об этом догадался дядя?
— Ага, — кивнул отец Иеремия, принимая из рук племянника пустой кошелёк Феликса с оборванным шнурком. — Всё сходится…
Но что у него сходится, священник сообщать не стал. Вместо этого обернулся к учителю и мягко заметил:
— А вы все-таки подумайте, Рудольф, над тем, что я вам сказал… И на службу приходите. Негоже доброму христианину увиливать от исповеди. Не передо мной каетесь, перед Господом нашим.
Махнул рукой, призывая Иоганна следовать за ним, и засеменил по направлению к воротам.
Отец Иеремия стоял у ворот и, нахмурившись, рассматривал знак, на который указал племянник.
— Да, — вздохнув, сказал он, — это ворона.
Затем неожиданно тронул юношу за плечо и мягко произнес:
— Пойдем-ка прогуляемся, мой мальчик. Тебе понравилось быть сыщиком, верно? Это тяжелый труд, Иоганн, очень тяжелый….
Дядя замолчал, подыскивая слова. Так и шли молча, Иоганн не торопил, знал, что в такие минуты перебивать священника не стоит.
— Я говорю сейчас не о сыске… Найти преступника сложно, но это сложность для ума. Во сто крат сложнее душе сыщика. Душа, она открыта для чужой боли, сострадает, мается. Ты по возрасту своему видишь в сыске лишь загадку, тайну, но у тебя чистая душа и она обязательно будет болеть. Выдержишь ли это? Не закроешься ли наглухо от чужих страданий? Не станешь ли черствым и немым? И та, и другая доля тяжела, но черствость отвращает нас от Бога. Черствая душа не только от страданий, но и от любви закрыта.
Отец Иеремия сделал паузу, посмотрел на племянника и продолжил.
— Посмотри на нашего жандарма, на господина Вальтера, — сказал священник. — Он справедливый человек, ни разу не слышал я от селян или купцов, что приезжают на ярмарку, жалоб. Но война и служба отвратили его от пути истинного христианина. Он черств, он служит только букве Закона, он видит только дела, а не людей, что приходят к нему со своими бедами и проблемами.
— А Себу пожалел, — вставил Иоганн. — Без наручников в смердяйку вел.
— Ну что у тебя за выражения, мальчик мой? — сокрушенно произнес отец Иеремия. — Разве можно употреблять такие слова? Неужели нельзя просто сказать — в кутузку? Или хотя бы «под замок»?
В ответ Иоганн лишь виновато пожал плечами. Впрочем, никакой вины он за собой вовсе не чувствовал, но слова дяди о чужой боли свое впечатление произвели. А ведь действительно, подумал юноша, есть в этом правда. Что для тебя просто шарада, ребус, крестословица — для иных горе и потеря близких.