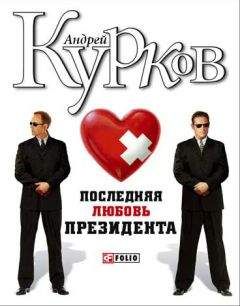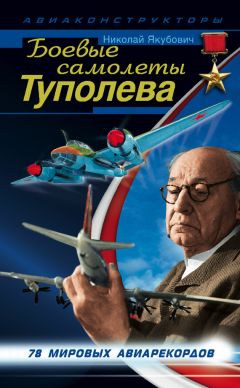– Как мне теперь отцу в глаза смотреть! – Гусейнов оборачивается ко мне. На лице – пьяное отчаяние.
– Да перестань ты! Ведь не посадили! Ну не будешь ты ментом!
– А кем я буду? Пистолет забрали! Форму я не отдам, но носить не могу!
– Поедешь к своим, в Дагестан, там носи сколько хочешь!
Мысль о том, что в Дагестане он сможет носить ментовскую форму, кажется, немного успокаивает его.
– Ты пойми, я же не мог по-другому! Ну представь, у тебя в обезьяннике сидит твой двоюродный дядя, а ты его сторожишь! Что он потом твоим родным скажет? Ты бы ведь тоже его отпустил!
Я отрицательно мотаю головой.
– Не отпустил бы? – удивляется он.
– Нет.
– А земляка?
– И земляка бы не отпустил!
Гусейнов тяжело вздыхает, нагибается за бутылкой и пьет из горлышка. Потом передает бутылку мне.
Я пью, отвернувшись в сторону Труханова острова. Пью, хоть во рту и противно от этой водки. Пью и смотрю на странную землю, на голые деревья, на заснеженный неясный берег.
– У нас не так, – говорит Гусейнов. – Если младший что-то сделал и попался – ремнем его или кулаками отделал и отпустил, а если старший – то просто отпустил. У нас нельзя своих сажать, понимаешь? Нас мало, и почти все – родственники.
– А нас много, и мы почти все друг другу – никто!.. Знаешь, если я стану генсеком, я прикажу, чтоб тебя обратно в милицию взяли!
Пустая бутылка катится по мосту, на котором никого кроме нас нет. Стекло глухо позвякивает, ветер подвывает. Мост, кажется, раскачивается. Или это нас от выпитого качает.
Я сравниваю расстояние до берегов. Похоже, что мы стоим прямо посередине.
– Пошли! – Гусейнов кивает в сторону острова.
– Пошли! – соглашаюсь я.
Остров приближается, но тут с неба начинает сыпаться снег. Мы прибавляем шагу, чтобы не потерять из виду Труханов остров. Снег густеет, морозец бодрит, прогоняя из головы хмель. Ноги заплетаются.
Потом все вокруг становится снегом. Я не понимаю, где я, где Гусейнов, где остров. Я ничего не понимаю и иду в белом мраке, сам не зная куда, пока вдруг под ногами не раздается треск. Ноги мои проваливаются в мокрый холод. Уходят на добрый метр с половиной вниз, и вновь под ними появляется твердь. Я расставляю руки в стороны и кладу их на лед. Мне хорошо. Мне страшно холодно и хорошо. Холод сжимает меня, уменьшает в размерах, позволяет лучше прочувствовать каждый квадратный миллиметр тела. Вот оно – испытание на приятную прочность.
– Так можно ведь и до ручки допиться! – звенит над головой старческий голос, в котором уже стерлись признаки пола.
Я думаю, что еще стою в холодной проруби, но, оказывается, нет! Я лежу на раскладушке, накрытый пледом, одеялом и овчинным кожухом. А рядом гудит буржуйка, и на табуретке возле нее сидит старик с горбатым носом.
– Вы только подумайте! – говорит он. – У вас такой здоровый организм, а вы его гробите! Вы же в этой проруби заснули! Вам что-то снилось?
Я смотрю на него непонимающе.
– Несчастная любовь? Или на работе неприятности? – продолжает он свой вопрошающий монолог с надеждой на мое участие.
«Несчастная любовь? – думаю вдруг я. – Точно! Вчера Надька не пустила меня в протезную мастерскую, и я отчетливо слышал оттуда, изнутри, мужской голос». После этого я вернулся на Нивки и пошел к ментам погреться. А там ребята отмечают неприятности – Гусейнов выпустил пойманного с поличным квартирного вора, который оказался дагестанцем и его дальним родственником. Вот и выстроилась цепочка: от несчастной любви до проруби на берегу Труханова острова.
– На, выпей! – Дед сует мне под нос стаканчик.
Выпить действительно хочется. Я осушаю стаканчик одним глотком, но ничего не чувствую. Только странный сладкий привкус на языке.
– Что это? – спрашиваю.
– Отвар из крапивы.
– Так это вы меня вытащили? – Я вдруг начинаю что-то понимать.
– Ну да, – кивает он горбатым носом. – Сначала вытащил из проруби, потом вернулся за санками, потом на санках тебя сюда! Часа два возился! Думал, не выживешь!
– А Гусейнов?
– Какой такой Гусейнов? Не было там больше никого!
Старик оказывается последним жителем Трухановой слободы.
Но живет он там в землянке просто из протеста. И в память о слободе. Жена и дочь согласились на комнату в коммуналке, а он нет.
– Как вас зовут? – спрашиваю я.
– Давид Исаакович.
Швейцария. Лейкербад. Февраль 2004 года.
Медсестра в приталенном голубом халатике показывает нам со Светланой лечебницу. И я сразу чувствую себя душевнобольным. У нее из нагрудного карманчика свисают часики – как медаль за труд. Воротничок на халатике накрахмален.
Полы тут блестят. В воздухе носится искусственный аромат весенних цветов, а за окнами – горы, покрытые снегом.
Медсестра останавливается и показывает рукой за окно. Что-то говорит по-немецки. Я оборачиваюсь к Наташе – переводчице из нашего посольства. Наташа слушает ее и кивает. Потом пересказывает: у них там закрытый парк для прогулок пациентов – швейцарский горный воздух оказывает удивительно благотворное воздействие. Я киваю. И чувствую себя идиотом. Обычным европейским идиотом, который всегда кивает, слушая гида, врача и кого угодно, лишь бы тот рассказывал что-то с очень умным видом и вызывал доверие.
– Спросите, а какая-то культурная программа или терапия у них есть? – просит Наташу Светлана.
– Влияние электронных средств передачи информации тут ограничено, но у нас много картин, – переводит медсестру наша девушка. И повторяет жест медсестры, указывающий на стены.
Я подхожу к одной из картин. Банальнейший пейзаж. Вдали горы, внизу полянка и породистая корова щиплет травку. А под деревом сидит пастушок. Мне хочется съязвить.
– Спросите, какой породы эта корова! – прошу я Наташу.
– Альпийская бурая, – переводит Наташа ответ медсестры.
Я снова киваю. И снова чувствую себя идиотом. Пора заканчивать эту экскурсию! Но она не закончится, пока нам не покажут все, за что мы со Светланой платим деньги.
Через полчаса нас оставляют в покое. В приемном отделении на мягких кожаных креслах. Таких мягких, что когда к нам выходят Дима и Валя, подняться на ноги сразу не получается.
Дима обнимает меня. В его глазах слезы. Лицо румяное, пышущее здоровьем. Наверно, каждое утро пьет молоко альпийской бурой коровы.
– Как тебе тут? – спрашиваю.
Он прижимает меня к себе со всей силы.
– Хорошо. Очень хорошо, – шепчет. – Только немецкий плохо дается. Я просил учителя, а они не дают.
– Так они, наверно, тебя не понимают. Ты же по-русски просил?
– Я просил по-русски письменно, а они все это факсом переводчику. Потом ответ факсом. Потом мне перевод ответа. Отказали. Ты прикажи им!
– Я тут не могу приказывать, могу только платить.
– Так заплати!
– Я могу платить только с их согласия. Я поговорю!
– Да нет, это не важно, – Дима вдруг меняет тон и переходит на шепот. – Важнее другое. Валя согласна выйти за меня замуж.
Я оглядываюсь на Валю, которая в это время шепчется с сестрой.
– Ты поможешь? – настаивает брат.
– Я поговорю с врачом, – обещаю я и вижу, что мой ответ Диму не устраивает.
Нет, я на самом деле поговорю с врачом, но сейчас мне необходима пауза, чтобы понять происходящее. Пауза, судя по выражению лица Светланы, нужна и ей.
Швейцарский «главврач», к которому мы зашли через десять минут, отнесся к возникшей проблеме оптимистично.
– Это стремление к нормальной жизни, – сказал он. – Надо по возможности поддержать. Только с вашего обоюдного письменного согласия. Я бы для начала остановился на гражданском браке. Мы бы перевели их в двухместную палату и создали бы атмосферу семейной квартиры. Они бы сами ее убирали… Это интересно, хороший материал для научной статьи.
Профессору лет шестьдесят. Худой, маленький, словно перестал расти лет в тринадцать. Стрижка ежиком.
– Как вы думаете? – спрашивает он после размышлений вслух и после Наташиного перевода.
– Я против гражданского брака, – говорит Светлана. – У них не будет чувства ответственности!
– У больных чувство ответственности развито сильнее, чем у здоровых людей, – говорит профессор. – Однако если вы настаиваете, то пожалуйста! Только вся юридическая сторона дела – за вами!
Юридическая сторона дела ограничивается заверенным у нотариуса переводом первых страниц паспортов Димы и Вали и еще несколькими бумажками из нашего посольства, которое доброжелательно идет мне навстречу.
Киев. Июль 2015 года.
Специалист по стрессу появился ровно через полчаса после того, как я получил в руки контракт с Майей Войцеховской. Почти двухметровый великан в приталенном костюме с лицом неславянского типа. Встреть я его на улице, подумал бы, что итальянский манекенщик. Но на улице я не бываю. На той, где можно кого-то неожиданно встретить. У моих улиц есть потолки и ковровые дорожки.