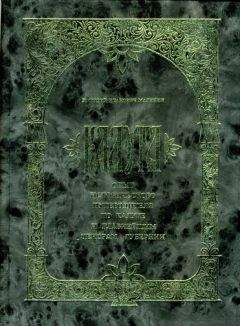Через три дня ему пришлось временно поселиться у меня. У него была комната и мастерская. Но в мастерской он отныне ни работать, ни спать не мог. Он был для них дедом, пожившим свое, да ещё запятнанный бегством от собственного сына, "в долгах, как в шелках" - как выражалась Зинаида, и потому в его мастерской сушились колготки и прочее семейное белье. Как-то я зашел, а он, бедняга, сидит в уголочке, и Любомирчик его за усы щиплет. А в глазах у него виноватая тоска. Я и предложил поселиться у меня. Нуждался Бенедиктыч в добром слове. Поведал он мне о своей женитьбе, о Татьяне, повздыхал, повинил себя. Понять можно - не ждал, не гадал, а тут внук, Любомирчик. Так и меня одолела бы рефлексия.
- Забавнейшее дитя, - растерянно улыбался Кузьма Бенедиктыч, - рыжий в Зиночку, а хитрющий, каких свет не видывал. Написает, на Раджика пальцем показывает и говорит: "Он!" Это же надо!
Я кивал и тоже посмеивался. А Кузьма Бенедиктович вздыхал, продолжая:
- Кто же мог знать, что человек так меняется. Я теперь, веришь, вижу этого шалуна пухлого, и глаза смеются. Ну, надо же! - и он вытирал глаза, весь мальчишка в Зиночку, даже на меня не похож.
И действительно. Малыш был рыжий и шустрый, и поругивала Зинаида Раджика, что не уделяет он сыну внимания. И тогда Раджик вспыхивал, как чиркнутая спичка:
- Ты меня, стауха, лучше не выводи! Я тебя не просил его ложать!
- Ну, какой ты мужчина! - смеялась Зинаида. - Нет, из тебя полубога не сделаешь!
И Радж в который раз прокусывал от злости губу единственным верхним зубом.
Не знал я, сочувствовать Кузьме Бенедиктовичу или поздравлять его. Жизнь штука не однобокая. Тогда уже, почти, как и теперь, благополучно с жильем было, и выделили Кузьме Бенедиктовичу квартиру. Он вновь занялся разными сложными чертежами, но прежде, чем это произошло, у нас было три-четыре дружеских вечера, где пился чай и дымились наши трубки, где я был совсем другой, где были воспоминания о Максиме и Москвичке, и где, не без помощи исповедей Бенедиктыча, я начинал видеть себя в прошлом и будущем, сидя у стола в своем доме в городе Калуге 1996 года, когда мне было всего тридцать семь лет.
Понедельник.
Как говорили, "попал в струю". Невольно. Предощутил ли социальную тенденцию, а может быть, явился естественным рупором новых решений. Так всегда бывало. Часть социального организма. А не знал. Но некоторые моменты все ещё тогда, в начале, настораживали. Самостопор, о котором думать не хотел. Социальный самоконтроль. Иногда ловил себя на желании сказать как бы резче, острее. Но изгонял это желание, считая его ненужным индивидуализмом. Тем более - новые лица, письма-отклики, масса задумок, ребенок, средство передвижения, место отдыха и, действительно, поездки. И страшила мысль о потере вообще жизни, о катастрофе, тем более, когда все так здорово, а тут постоянно - испытания, маневры, демонстрация мощи и взрывы, взрывы, взрывы. И желал объяснить, показать доходчиво, воспитать. Встать в ряд с лучшими. Заслужить это право быть совестью и хранителем нравственности. Незауряден и оригинален. Пророчат: талант, история, великая судьба. Проводят параллели и сравнения. Эпохален, говорят. Звучит, как нахален. Или рифма: барин. Это вставал перед глазами бородатый Лев Николаевич. Так сам к себе придирался, разбирался.
С одной стороны, тончайший отбор того, что лезет из головы - заслуга. Но по какому принципу? "Подойдет ли всем?" "Поймут ли?" "Главное себя понять?"
Кричал Ксении:
- Нельзя говорить все. Хаос! Человеку необходима надежда. Твердое алиби торжеству справедливости. Иначе начнется!
- Что? - спрашивала она безразличным тоном.
- Что, что! Безнравственность. Стихия.
- После стихии наступает затишье, - возражала она.
- Но что я должен? - кричал, - я и так отражаю судьбы. Нелегкие судьбы!
- Километры страниц этих судеб, - сказала Ксения и ушла.
И почва из-под ног убегала, голова кругом. Теперь уже без восторга представлял, что нужно начинать снова и выдавать, выдавать, собирая волю в кулак, изо дня в день, пропуская через себя чужие тыканья и состояния, отсеивая варианты. Так и виделся отличный современный станок, что штампует зеленые бутылки. Пластмассовые. Легонькие. Блестящие. Ритм у станка запоминающийся: пыф-шиф-ха, пыф-шиф-на, пыф-шиф-да.
Но не гад же! Все честно, сколько раз себя ловил: нет ли отклонения от идеалов? Кривизна души? Выбор тем? Рупористика? Нет, черт дери! Темы сами приходят, естественное желание созидать, кривизна бывает, но от недоумения, тогда брал и правил или потом ненавидел напечатанное уже. Все как надо, как старые мертвые учителя, как умные классические книги.
"Вот именно! Все, как надо!" Нет, зачем же, знал, что и не в этом соль болячки. Она где-то там, в тяжелом ритмическом пыф-шиф-ха!
Но что же? Наитие что ли? Труд есть труд. В слове "мастер" нет ничего такого, фальшивого... Наоборот, гордо звучит, заслуженно, впрочем, кто как понимает.
Всегда искал. Не останавливался. Не боялся трудностей. Самые резкие темы выбирал. Схлестывался из-за них, рисковал. Не потому же, что знал, что ничего за них не будет, может быть, и "пострадать" хотел. Но это, когда ещё лучшие времена не наступили. И вот рефлексия, когда сбылось все, о чем в юности мечталось. Развивайся, сколько влезет. Копай вглубь. Дерзай в хорошем смысле.
И рвал, бывало целыми главами, отбрасывал, сжигал. Не потому что перегибал или лгал. Стремился быть на пределе, не желал повторяться, искал новые формы.
Материальная обеспеченность не в счет. Она даровала глубину. Избегал роскоши, не скаредничал, друзей не терял, не угождал, не кланялся, молодых не отгонял. Нематод с Сердобуевым искренне добра желают, собою, вон, жертвуют.
Так что же? Возраст переходный, и все? И отчего такое ощущение, будто Ксении рядом нет, будто ничего и не было? Как написанный кем-то дурацкий роман? Что за терзанья? Куда они ведут? Кому это нужно?
В чем смысл, когда ни себе, ни другим не объяснишь, не выпростаешь, а все равно мучения по кругу, ненужные и бесплодные...
Может быть, болезнь? Такие результаты и все зря! Как будто вернулся в юность. ("Терзаешься, как дохлая курица!"). Обманул, выходит, раз плохо смотреть на результаты. А что же с ними? Вон сколько почитателей, интеллектуальный экстаз испытывают, душу наизнанку выверни, все равно воспоют.
Мечтал, дерзал и дотворился.
Тя-я-ж-ко!
- Мне надоело поучать, вести, отражать, - высказал назойливую мысль.
- Ты устал.
- Мне надоело вести, - повторил раздраженно и почувствовал, что говорит в пустоту, Ксении не было. - Мне надоело выдавать примеры! Я не могу зацепить главное!
- Ты опять ездил к нему? - услышал её голос.
- Да.
- Тогда понятно.
- Ну что тебе понятно?! - вскричал и подумал: "А со стороны-то ничтожный!"
- Я просто сказала слово "понятно".
- Ты устроилась в благополучии и смотришь на него другими глазами. Ты бы не вернулась со мной назад, чтобы начать все заново.
И опять не увидел её рядом. Ее не было. Кто-то придумал эту глупую шутку с женитьбой, кто-то разыграл этот жалкий фарс с писательской судьбой.
Не выносил, когда она обижалась. Не мог быть спокойным, когда её обида заполняла пространство (никогда не плакала от обиды), когда она уходила в себя.
"Суета, мишура какая-то!" - злился и знал, что злость пройдет и злился на то, что злится, зная, что злость пройдет.
"Ум зрит, а плоть разгульна, ум знает, что глупо, а раздражению начхать, психике до фени. Заняться аутотренингом, что ли? А куда тогда денется движение? Будет этот вечный самостопор, реле-поворота?"
- Пойду машину загоню.
Она не ответила. Может быть, отойдет в отсутствии.
В гараже полумрак, прохлада и запахи, чудная смесь тепла и металла, бензина, резины, масла, кожи. Присел на капот, закурил.
"Дьявол! Какого черта он не стал писать?" - это восклицание прорывалось время от времени на протяжении шести лет. Изредка, но страстно. Пока сам писал романы, кто-то выдумал этот роман с таким вот тошнотворным финалом. Писал, сам являясь типажом, героем, где тоже неувязки и неточности. Ксения - это ведь так глупо, с ней явная неувязка.
"Я уйду от нее!" - подготавливал себя. Тяготило её контролирующее око. Боялся признать, что не дотянул до нее. "Уйду" и "писать" - две нерешенности. А остальное - все та же вечность.
Тогда Кузьма объяснил очень просто:
- Займусь другим.
- Почему? У тебя же сособности, - смотрел в его шальные глаза и думал: "Безволие, упрямство, немощь?"
Так все ему и выложил.
- Нет, - не обиделся Кузьма, - боюсь я.
- Чего, дурачок?
- Себя, - и взволновался, - не могу пока объяснить, ты веришь, не могу. Сам ещё не понял.
- А хочется?
- Чего?
- Писать?
- Бывает. Когда тоска и мысли необычные.
- А сюжеты?
- Нет их.
"Бездарен", - решил про себя и сказал прямо:
- Значит, это не твое, займись другим.
- Боюсь я.
Тут, помнится, и сам растерялся: боюсь, боюсь и все без шутки.