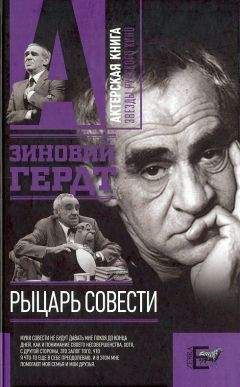Петр засмеялся.
— Это верно. Во мне здоровья — на троих: одной рукой, ты знаешь мою руку, до сих пор двоих за шкирку поднимаю, а пристукну лбами — гуляй, Вася, ложись в гроб, а зашел однажды к терапевту, на права сдавал, когда купил вот эту тачку, — он похлопал по рулю, — гоняли по врачам, дело известное, а док и говорит: «Милейший, а у вас цирроз, пить — ни вот столечко, и не курить, и не…»
— Вот, вот… старик тот, может быть, и не болел, но карточка была, склероз поставили, вот и причина смерти. Ни волокиты, ничего… но желанию трудящихся. А в поликлинику не обращался, значит, был здоров, а здоровые не умирают, пусть им даже под сто лет, как нашей Ефросинье Александровне, а коль здоровые не умирают, но все же умерли, надо узнать причину смерти, а узнать причину можно лишь при вскрытии, на это есть медэкспертиза, а медэкспертиза говорит: после семидесяти не вскрываем! А вскрываем только по бумажке из милиции…
Петр почесал надбровье, шмыгнул носом.
— И как эта бумажка называется?
— Следственное направление. Труп такого-то (такой-то) направляется для судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти гражданина или же гражданки имярек и все такое прочее…
— Значит, надо идти к Слакогузу.
— Его на месте нет, куда-то вызвали.
— А ты откуда знаешь?
Климов не стал рассказывать, как его выставил из кабинета Слакогуз, но о том, что «Мишке при мне звонили, и он выехал куда-то но звонку», кратенько поведал.
— Кого-то принимает, размещает, суетится.
— Любит начальство, и оно его, естественно, оценивает по заслугам, — съехидничал Петр и сказал, что увидел бы машину Слакогуза, если бы он проезжал в сторону дома.
— Он туг рядышком живет, в Подгорном переулке, за аптекой. А так, обычно, не вылазит из «гадиловки».
Климов удивленно глянул на Петра, невольно хмыкнул. Усмехнулся:
— Ты, как блатной, отдел милиции «по-свойски» именуешь.
Петр смутился.
— Извини. На руднике, сам знаешь, кто мантулил… Нахватался… Одно название «соцгородок» о многом говорит.
— Да, ладно… Это я уж так… Сейчас газетчики «по соне ботают» не хуже уркоты… Как будто всем им, кто обслуживает власть, из воровского «общака» бросают кость. На поддержание штанов. Детишкам, так сказать, на молочишко. Из рук авторитетов. Центровых. Козырных.
— Кто платит, тот и музыку…
— Понятно.
Помолчали. Потом Петр спросил:
— А ты там, во дворе, кому-то хрюкало начистил, что ли?
Климов повернулся.
— Кто-то громко плакал?
Петр кивнул.
— Да, жаловался маме.
Пришлось рассказать о происшедшем.
— Я так и не понял, что к чему. Вроде, веселый, а усмешка грустная. — Климов вспомнил двух мордоворотов, зацепивших его локтем у титана с кипятком, парней, выпрыгивавших из вагона, черный «рафик», санитара Сережу, неожиданного своего попутчика и — родственника или же знакомца паспортистки? — мрачного амбала, развернувшегося для удара… Странность совпадений настораживала и угнетала. — Но я не дал ему повеселиться. Грешен. Каюсь. — Климов ернически приложил к сердцу ладонь. — Лишил его возможности пересчитать мне зубы, зато приветствовал его стремление попасть в курятник.
Петр расхохотался.
— Ай-ки-до?
— Оно родное.
— А я смотрю: ты завернул за почту, потом куда-то запропал и вышел к площади со стороны аптеки.
— Избегал досужих репортеров.
— Э-эх! — Петр могуче развернул, расправил плечи, насколько это позволяли габариты «Москвича», — где наша юность, молодечество и удаль? — Ответа он от Климова не ждал, поскольку тут же сообщил, что Климова искали.
— Я понял, что тебя, но они спрашивали про двоих.
— Когда?
— Как только ты ушел к Жанне Георгиевне.
— Сколько их было?
— Трое.
— Опиши.
Все это уже было интересно.
Петр посмотрел в свои ладони и согнул левый мизинец.
— Первый: подбежал, спросил, не видел ли я где двух мужиков, одного в сером плаще, высокого, другого чуть поменьше, но с короткой стрижкой. В черной куртке, перебитый нос, на указательном пальце — печатка. Перстень золотой. Похож на рэкетира. — Климов не перебивал, хотя «похож на рэкетира» — не примета. — Второй стоял поодаль. — Петр заломил, прижал к мизинцу безымянный палец. — Сытый, гладкий. Тоже в куртке. Черной. Вроде, как их старший. А у третьего — железная коронка на резце. Он все стоял и схаркивал. Стоял и схаркивал. Ко-о-озел вонючий. Впрочем, самый, показалось мне, опасный. — Петр не стал загибать третий палец, сжал кулак.
Да, это были парни из кафе. Значит, амбал из их компании. Или же группы. Или же — банды. Сейчас точно сказать нельзя. Время покажет.
— Я их утром видел, — сказал Климов, — когда завтракал в кафе. Они тебе знакомы?
— Нет. Это чужие.
И в кабине трейлера были чужие. Непонятно. Странно. Даже очень.
Климов потер переносицу.
— А «Мерседес» кому принадлежит? Возле кафе стоял. Заметил?
— Тоже не нам, — ответил Петр. — Заезжий.
— Я так и думал. Кто-то из гостей. И не простых.
— Из очень деловых.
— Узнать бы, кто они и кто их принимает?
Петр скривил губы. С тайною обидой в голосе спросил:
— Ты что, серьезно? Может…
— Нет, — перехватил ход его мыслей Климов. — Я приехал поклониться бабе Фросе и похоронить ее. Так что не думай… Просто склад характера такой, ну и работа, понимаешь, накладывает отпечаток: кто? куда? зачем? Сыскарь и филин. Сам от себя порою устаю, а тут еще после психушки не отдыбаюсь…
— Какой еще?..
— Да, сядем, расскажу.
— Так мы и так сидим. — Петр удивился. — Или как?
— Мы едем, Петр, — ответил Климов. — Едем.
Петр смотрел недоуменно.
— Куда едем?
— Сначала в поликлинику.
— Зачем?
— Узнаем, можно ли от них взять направление для вскрытия…
Почувствовав, что Климов что-то не договаривает, Петр завел двигатель, что-то проверил рукой под рулем, включил правый поворот, переключил скорость, искоса глянул.
— А еще зачем?
— Сходишь, посмотришь, что с тем дурнем… из курятника.
— А почему ты думаешь он там?
— Когда я вышел из аптеки, мимо промчались «Жигули», первой модели, красные…
— Это Валерка Глызев, горным спасателем работал.
— …и в них, сзади водителя, мотал башкой тот весельчак, что завалил курятник. Рожа кровью залита, держался за глаза. Куда они спешили? Ясно, в поликлинику. Оказывать бедняге помощь.
— Тогда, едем.
Время от времени с деревьев срывался беспривязный ветер и запоздало пытался настичь мелькавшие в воздухе листья, размазывая по лобовому стеклу старенького «Москвича» невесть откуда долетавшие дождевые капли. Заросшая лесом и кособокими домами котловина городка ненастно заполнялась сумраком, и холодная сырость предзимья выстуживала беспросветный день.
Петр ушел в поликлинику и пока не выходил.
Климов стащил с себя плащ, швырнул на заднее сиденье: все не так в глаза будет бросаться, если его ищут. Чуть расслабил узел галстука, помял щеку рукой: зуб беспокоил. Аналгин уже не помогал. Надо зайти к зубнику. Может быть, даже сейчас. Как только Петр вернется, он отправится на экзекуцию. Заплатит, сколько это будет стоить, ведь не сумасшедшие же деньги, как-никак провинция и безработица к тому же, и вообще, не все же скурвились за годы перестройки.
В голове было угарно от зубной нудьги, виски ломило, и мысли перекатывались в голове, как пустое ведро в тракторной тележке, которая едва не зацепила «Москвич» своим заизвесткованным бортом. Тракторист, чем-то похожий на Дерюгина, но не Дерюгин, крутанувшись на седушке и выплюнув пожеванную папиросину, погрозил Климову двумя руками: я, мол, тебе в следующий раз… Тракторист привозил песок для поликлиники и ему трудно было развернуться на тесном пятачке пустынного двора. Теперь возле кучи желтого песка понуро стоял дворник. В голове его, похоже, было так же угарно, как и у Климова, но явно по другой причине. Он недвижно устремлял свой взор на кучу мокрого песка, не знал, что с ним делать.