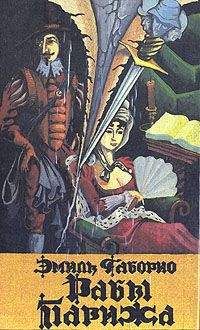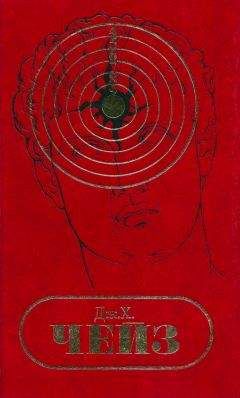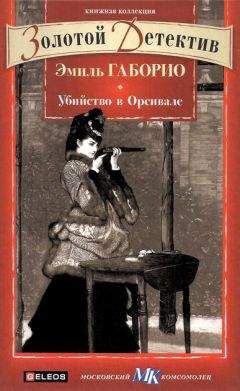— О, в настоящее время, — начал он тоном заправского фата, — для меня это не обременительно. Правда, одно время мне было очень тяжело, но сейчас я получил место на двенадцать тысяч в год!
Он воображал, что такая цифра непременно ошеломит бедного художника, вызовет у него восклицания зависти и изумления, но, не встретив с его стороны ничего подобного, добавил:
— В мои годы — это недурно.
— По-моему, так даже превосходно! Но в чем же состоят ваши обязанности, надеюсь, это не секрет? — самым обычным тоном осведомился художник.
Но Поль счел такую обыденность тона желанием чуть ли не унизить его.
— Работаю, — ответил он, откидываясь на спинку предложенного ему стула.
При этом выражение его голоса было настолько странным, что Андре взглянул на него с удивлениемт
— Я тоже довольно редко сижу сложа руки, — произнес он, — а между тем…
— Да, но вы совсем другое дело! Я, я обязан работать в два раза больше других, так как у меня нет никого, кто бы позаботился о моем будущем, я не имею ни родственников, ни друзей-покровителей.
Неблагодарный, он уже забыл о господине Маскаро, столь много сделавшем для его будущего…
В конце концов художник, видя, что глупости и хвастовству его приятеля конца не будет, явно стал над ним подсмеиваться.
— Ей-Богу, забавно! — проговорил он, — вы, кажется, вообразили себе, что совет воспитательных домов может выпускать заодно с воспитанниками и кучу необходимых для них покровителей!
При этом вопросе Поль окончательно счел себя оскорбленным.
— Как вы изволили выразиться, сударь?
— Точно и ясно, мне кажется, и прибавлю к этому, что подчас эта подробность бывает весьма прискорбна для нашего брата. Я, по крайней мере, испытал это на себе, да и многие из моих товарищей тоже…
— Как, милостивый государь, вы откровенно сознаетесь, что…
— Что я сын Вандомского воспитательного дома, — с комическим горем подхватил Андре, — да, сознаюсь, что же в этом ужасного? Я оставил там по себе прескверную память, как самый отъявленный шалун из всех мальчишек… Все мы немало испытали в этой жизни. Я, однако же, удивлен, что вы ничего не знали об этом факте моей биографии. Хотите, я расскажу вам пару эпизодов из моей жизни, может быть, вам они пригодятся как наглядный пример, а мне не так скучно будет работать…
— Я весь внимание, — отвечал Поль, так и не решив, продолжать ли ему обижаться.
— Видите ли, до двенадцати лет я чувствовал себя абсолютно счастливым: днем развлекался в громадном саду в Лувре, выполняя посильные детские работы, а по вечерам изводил огромное количество бумаги, желая написать и нарисовать что-нибудь совершенно чудесное. Я с самого раннего детства хотел стать художником. Профессор мой — одна сестра милосердия, занимавшая в моем отделении должность преподавателя живописи, всегда приходила в восторг от моих талантов. Но, увы, ничто не вечно под луной… Мое блаженство продолжалось только до двенадцати лет… Едва минуло мне двенадцать, как наша директриса решила отдать меня в ученики кожевнику.
Поль собрался было закурить. Очень внимательно, впрочем, слушая историю детства своего приятеля, он потянулся, чтобы достать спички, но Андре поспешно остановил его:
— Вы меня очень обяжете, если не будете курить, — с вежливой бесцеремонностью произнес он.
— Хорошо, — отвечал Поль, — только продолжайте свой рассказ.
— С большим удовольствием, тем более, что он весьма короток. Ну вот, волей-неволей, перебрался я к кожевнику. Ремесло это я возненавидел с первой же секунды. Так получилось, что только я поступил туда, как кто-то из рабочих поручил мне принести целый ушат кипятка, необходимый для работы. Не сумев поднять его, я полетел вместе с ушатом и так обварился, что едва не умер от ран, следы которых до сих пор на моем теле…
Не в силах побороть отвращения к делу, следы которого остались на моем теле, обваренный и больной, я дотащился до приюта и на коленях принялся умолять директрису, жуткую бабу в синих очках и с огромным носом, чтобы она забрала меня от кожевника и отдала в учебу кому-нибудь другому. Но все мои просьбы были тщетны — она поклялась, что я стану кожевником.
— Ужасное варварство!
— Да, а вы и не подозревали о чем-нибудь подобном? Ну, так вот, видя подобную непреклонность со стороны директрисы, решился я бежать, как только смогу раздобыть хоть немного денег… Для этого стал я себя вести самым почтительным образом, и в конце года, благодаря обилию заказов, которые я разносил, в течение целого года не потратив ни одного су на лакомства, я собрал сорок франков! Тогда я решил, что этого будет достаточно и в одно прекрасное утро в одной рубашке и тоненькой блузе направился прямо сюда — в Париж.
— Как, и вам в ту пору было не более тринадцати лет?!
— Даже и тех не было… Только и было, что сорок франков в кармане, да, благодарение небу — сила воли и характер — вот качества, которые только одни лентяи называют отчаянностью. Я поклялся себе, что буду художником…
— И вы им стали!
— Да, стал. Через трудности нищеты и голода, разумеется, а все-таки я добился своего. Как сейчас стоит перед моими глазами тот бедный паршивый трактирчик, где я уснул в свою первую ночь в Париже. Я был до того усталым, что проспал шестнадцать часов. Проснувшись, я поел — и поел, надо признать, хорошо. После этого я сосчитал весь свой наличный капитал и понял, что если я немедленно не найду работу, дело кончится плохо.
При последних словах на губах Поля заиграла сардоническая улыбка.
Он вспомнил и сравнил свое положение, когда он попал в Париж, с положением товарища. Ему было не тринадцать, а двадцать два года, и в кармане у него находилось не сорок, а три тысячи франков.
— Ну, и что же, вы надеялись сразу найти работу? — со злорадством спросил он Андре.
— Нет, — отвечал художник без тени хвастовства и со спокойной улыбкой, — я был благоразумен, я понимал, что для того, чтобы получить работу, надо уметь ее делать. Следовательно, сначала надо научиться этому. И копил я свои сорок франков для того, чтобы было чем на первых порах заплатить за уроки.
В этом было столько логики и смысла, что Поль невольно прикусил свой язык.
— По счастью, — продолжал художник, — в то время, когда я завтракал, рядом со мной за одним столом расположился какой-то толстый господин.
— Милостивый государь, — обратился я к нему, — хотя мне только тринадцать лет, но я здоров, силен, умею читать и писать. Я пришел издалека, не могли бы вы указать мне место, где я мог бы научиться какой-либо профессии?
Он пристально посмотрел на меня, затем произнес угрюмо:
— Ступай завтра утром на Гревскую площадь, там какой-нибудь каменщик возьмет тебя в артель…
— И вы пошли?
— Разумеется! С четырех часов утра я прогуливался по площади, приставал то к одной, то к другой группе ремесленников, как вдруг мне показалось, что толстый господин, завтракавший со мной накануне, находится между этими людьми. Он тоже меня заметил и обратился ко мне:
— Мальчуган, у меня артель скульпторов, если хочешь, можешь идти ко мне работать. Сначала будешь помогать декораторам и в то же время учиться…
Учиться скульптуре! Да мне показалось, что небеса разверзлись от счастья…
— Но как же вы перешли к живописи?
— О, живопись пришла позже, сначала надо было хоть немного получить знаний. Днем я работал, а по вечерам посещал различные художественные школы, в основном, учился рисунку. На заработанные деньги покупал различные книги и руководства по искусству, а в воскресенье брал уроки у профессора, которому недорого платил…
— И все это вам пришлось делать, отрывая деньги от пропитания?
— Вот именно. Много лет я не мог себе позволить даже кружки пива. Но я добился-таки того, что стал получать на равных со своими товарищами — восемьдесят франков в неделю. После этого я уже всерьез занялся живописью, и с тех пор уже не бедствую.
— И вас никогда не тянуло вернуться в Вандом?
— Что вы! Но я никогда не позволю себе вернуться туда раньше, чем у меня будет пятьсот свободных франков в год, чтобы дать возможность пробить себе дорогу такому же горемыке, каким был я.
Если бы даже Андре знал, что Поль по рождению принадлежит к тем же "горемыкам", то все равно не сказал бы иначе. Каждое его слово действовало на Поля, как оплеуха.
Кусая ногти со злости, Поль еще раз оглядел жилье своего товарища и с горьким сознанием своего бессилия увидел, что его друга окружает не только довольство, но даже некоторая роскошь. Он готов был разрыдаться от злости и отчаяния.
Одновременно ему показалось странным, что неоконченная картина на мольберте так тщательно укрыта от посторонних глаз, да еще эта просьба не курить, когда сам Андре курит… Он вспомнил, что привратница болтала ему о какой-то даме, посетившей Андре в сопровождении горничной.