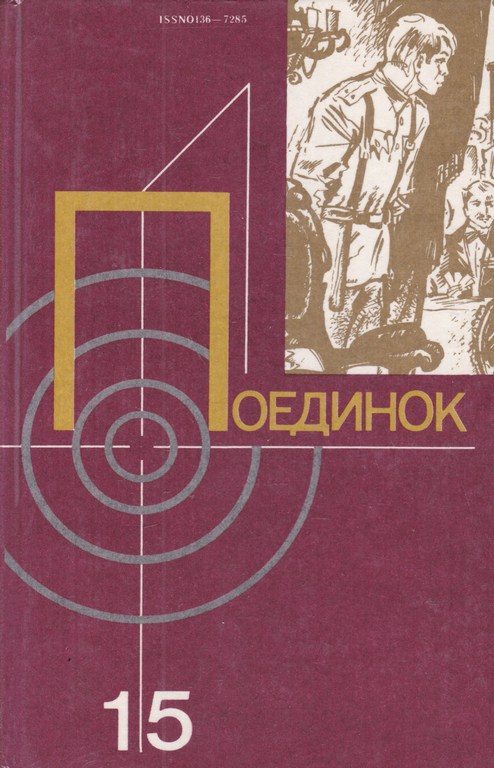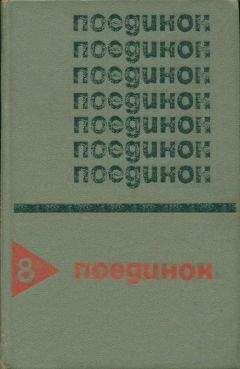немцев, чтоб исчезнуть на несколько минут. Выбор оружия предопределил и способ. Почти бесшумная «пукалка», стрельба в упор, в закрытом помещении.
К семи вечера выяснили: Альбрехт — заядлый бильярдист и сразу после ужина пешком добирается до Люблинской улицы, до бильярдной в полуподвале дома, где расположились офицерские курсы переподготовки. На первом этаже — столовая, на втором — классные комнаты, на третьем — общежитие, контингент курсов — переменный, Шмидта никто почти не знает, Петр Ильич покрутится в столовой, спустится в полуподвал и из-за спин зевак всадит в затылок Альбрехта две пули, поднимется в столовую, доест поданное ему блюдо, потом…
«Потом» не будет, потому что бильярдная набита агентами гестапо и полиции, потому что фиксируются все входящие в бильярдную игроки и все выходящие, каждый человек на учете и зеваки смотрят не на шары. Петра Ильича надо перехватить где-то на подходе к полуподвалу.
Дважды проехали мимо бильярдной. Прикидывали так и эдак, рассчитывая дороги, по которым пойдет Петр Ильич. Остановились на варианте, наиболее присущем ему. Марш-агенту не раз приходилось проверять явки, прорываться сквозь заслоны, выставленные службой безопасности, появляться в нужном месте естественно и будто бы мимоходом. И ныне Петр Ильич изберет путь, не вызывающий подозрений. Заглянет в часовую мастерскую во дворе, посидит в ней, отлучится на минутку, сквозными подъездами подойдет к курсам с тыла.
Рассчитали, кажется, верно. С лестничной площадки третьего этажа хорошо просматривались и часовая мастерская, и подъезды дома, рассекавшего двор пополам.
Двери мастерской открывались дважды. Вышел солдат, на ходу застегивая ремешок часов, потом — женщина с сумкой. Дома в этом квартале стояли мрачными, неприступными. Такие дома, наверное, до революции назывались доходными.
Откуда появился Петр Ильич — не понял ни я, ни Игнат. Он вдруг возник — и тут же заслонился кузовом громадного семитонного «бюссинга», грузовик въезжал во двор и неуклюже разворачивался, окутываясь сизым дымком. Развернулся — и мы увидели Петра Ильича в дверях подъезда, уже открывающим дверь, уже потянувшим ее на себя, — и тут над ухом моим раздался выстрел, в момент, когда дверь начала закрываться. «Машину!» — крикнул Игнат, сбегая вниз.
Мы втащили его в «опель», оглушенного и простреленного, и повезли. У дома он очнулся, узнал меня и выругался, сам поднялся в квартиру, сел, подставил сапог. Игнат не мог удержаться от хвастовства: «Вот так надо стрелять!.. Сантиметром ниже — и сапог был бы продырявлен!» Кость была не задета, рану промыли и забинтовали. Петр Ильич злыми, беспощадными глазами смотрел на нас. Страдало, понятно, самолюбие, а его у него было хоть отбавляй, стонали и шейные позвонки, принявшие на себя рубящий удар Игната
— Я был обязан!.. Обязан! — повторял он словно в беспамятстве, когда ему пытались мы объяснить, что за глупости натворил он и от какой беды спасен.
21
Как на собаке, зажила на нем рана. На третий день Петр Ильич пошел на службу — узнавать новости, подбирать крохи, из которых он умел лепить целое, и крохи эти с каждым днем уменьшались в размерах, усыхались до пылинок, не годных для мозаики. Пять двойных выстрелов напугали гарнизон, офицеры сделались угрюмыми, молчаливыми, подозрительными. Службы безопасности проверяли всех, кто в минуты убийств находился рядом с убитым, проверка шла методом исключения, обер-лейтенанта Шмидта из списка подозреваемых еще не вычеркнули. В поисках браунинга калибра 6,35 устраивались обыски наугад. Альбрехт ежевечерне наведывался в бильярдную и храбро постукивал по шарам.
Петр Ильич постарел — это бросалось в глаза. Ни лишней морщинки, ни седого волоса — и тем не менее постарел. За одну неделю тиканье времени в его организме убыстрилось до бега и топота. Он смотрелся эдак лет на тридцать восемь. Все чаще дергался над правым глазом его какой-то нервик, прикладывание пальца к нему уже не помогало, Петр Ильич прислонял тогда лоб к стеклу окна, будто всматривался во что-то далекое, и высвистывал он теперь не маршевые мелодии, а мрачно-торжественные рулады из Вагнера.
О ветеринарном полковнике у него мы не спрашивали. Да и что спрашивать: задание не выполнено, операция провалена. Заговорил сам.
— Он евангелист. Ты не знаешь, что это такое. А жаль. О евангелизме своем он рассуждает вслух, и это очень интересно. Бог и Сатана, превращение одного в другого. Ситуации, когда Бог якшается с Сатаной, считая его Богом, а Сатана отвергает Бога в Боге. И варианты.
На такого Сатану, неразлучного с таким Богом, можно набрасывать любые одежды с любыми знаками различий. Евангелист освобождал нас от объяснений, и все же Игнат попытался как-то рассказать, почему обманули мы Петра Ильича. Слушать он не захотел. Но смирился, правоту нашу признал. Да и общая опасность окутывала нас. Надо было держаться вместе, чтоб не потеряться в черной мгле.
Временами на него нападали приступы озлобления. Он издевался над Игнатом, высмеивал его усы, утверждал, что еще в 40-м году видел в Варшаве его портреты, вывешенные немцами, и мальчишки пририсовывали Игнату усы. Обрушивался с бранью на меня. Потом охлаждался, бормотал какие-то извиняющие слова. Плохо, что он стал при немцах терять контроль над собою. Однажды устроил скандал, который кое-кто в «Хофе» назвал безобразным., И не в ресторане скандалил, а в клубе: махонькое недоразумение за карточным столом раздул до обвинений в шулерстве. Обер-лейтенант Шмидт, по слухам, разъяренно выхватил карты из рук соперника и швырнул их в лицо ему, орал что-то невообразимое, постыдное, по гарнизону пошла дурная слава о бузотере Шмидте, скандал кое-как замяли: у всех нервы!
Стыдно было укорять его в чем-либо. Что нормально, а что ненормально в его поведении — эту загадку ни один психолог разрешить не смог бы. У Игната мелькнула безумная идея показать Шмидта гарнизонному невропатологу, и было в безумии этой идеи что-то притягательное, рациональное: избавление от болезни могло таиться в столкновении вывернутых наизнанку контрастов.
Надо было что-то делать, как-то лечить Петра Ильича, он становился уже неуправляемым. Однажды застал его дома — пистолет в трясущейся руке, глаза мутные, круглые, голос обрадованный: «Ах, это ты…» На столе — водка, закуска русская — корочка хлеба, селедочный хвостик.
И уж совсем не понравился нам мальчик, вдруг попавший на квартиру Петра Ильича.
Он, этот мальчик лет пяти, был словно отжат до сухости, таким тощим выглядел. Дряблая старческая кожа висела на кривых костях, голова в лишаях. Не говорил, мычал, но глаза проявляли понимание. Нашел его Петр Ильич в парке, отбил от стаи мальчишек, мужская кофта и нищенская сумка показались стае ценной добычей. Таких стай было в городе несколько. Оставшиеся без