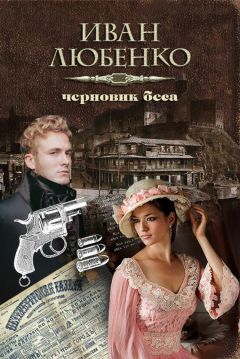— Прошу вас передать нам сии главы. Мы приобщим их материалам дела. Надеюсь, вы их сохранили? — с хитрым прищуром спросил мировой судья.
— Безусловно, — кивнул Толстяков, выдвинул ящик стола и протянул Дериглазову несколько листов почтовой бумаги, которые тот поспешно сунул в портфель.
— И ещё одно важное обстоятельство, — добавил Ардашев. — Вся рукопись и анонимное послание Бобрышеву о неверности его жены набраны на одной и той же печатной машинке. И это несмотря на то, что вторую главу он передал Пантелеймону Алексеевичу Стахову — шурину Сергея Николаевича — в Новороссийске. Стало быть, автор подготовил текст заранее. Отсюда следует, что, возможно, он ехал на том же самом поезде, что и господин Стахов, и машинку, скорее всего, сдал в багаж. Как вы понимаете, я изучил специфические черты буквенных оттисков и вот к какому заключению пришёл: литера «с» завалена слегка вправо, а буква «т» имеет ярко выраженный левый наклон, да и рычажок «а» сработался и не пропечатывает верхнюю часть буквы. Эти черты характерны как для рукописи, так и для анонимного письма, посланного Бобрышеву. Следовательно, вывод простой: злоумышленник приехал сюда со своим «Ундервудом», «Империалом», «Ремингтоном», «Юнионом» или «Адлером». А посему, нет смысла связывать его поимку с поиском печатной машинки в самом Сочи. Думаю, это первая оплошность злодея. Я бы на его месте постарался нас запутать и напечатал бы анонимное послание на другом механизме.
— А какова же его вторая оплошность? — поинтересовался пристав.
— Это послание Бобрышевой, написанное почерком Сергея Николаевича, и имитация его подписи. Теперь мы знаем, что, так называемый Бес, имел или имеет доступ к бумагам с подписью Толстякова. Это вторая ниточка, которая, рано или поздно, приведёт нас к преступнику.
— Да, но кто это может быть?
— Пока трудно сказать, но нельзя исключать не только недовольных авторов, но и друзей и даже не близких родственников.
— На господина Стахова намекаете? — раздумчиво спросил Дериглазов.
— Я ни на кого не намекаю, а лишь описываю круг кандидатов в преступники.
— А что, если кто-то из ваших работников общается с этим писателем-неудачником? — предположил Закревский. — Вдруг Бес — не один человек, а целая компания злодеев?
— Нет-нет, господа, я в это не верю, — замахал руками издатель. — Этого не может быть. Посудите сами, зачем им убивать своего коллегу Сырокамского?
— А может, всё-таки стоит проверить фамилии всех, кого вы знаете по оплате курортного сбора в Сочи за последнюю неделю? — предложил адвокат.
— Неплохая идея, — согласился Дериглазов. Он достал из портфеля карандаш, записную книжку и строго сказал: — Итак, Сергей Николаевич, попрошу назвать фамилии.
— Ну что ж, — сдался Толстяков. — Записывайте: Кривошапка Аверьян Никанорович — редактор, Глаголев Феофил Матвеевич — студент, Петражицкий Рудольф Францевич — писатель, ну и здешний актёр, и писатель Бардин-Ценской.
— Фёдор Лаврентьевич? — удивился полицейский. — Он что тоже пишет?
— Да, к моему глубочайшему сожалению, — кивнул газетчик.
— И господина Стахова мы так же внесём в число подозреваемых, — довольно заключил Дериглазов.
Пристав сел в кресло, потёр ладонью лоб и сказал:
— Раз Бобрышев знал про «Черновик беса» и главу с угрозой для его жены, то ведь он мог и сам её отравить? А почему нет? Месть, знаете ли, за измену. Да и подозрение падёт не на него, а на этого безымянного Беса. А роспись вашу подделать совсем несложно. И почерк. — Он посмотрел на Толстякова и спросил: — Он мог видеть, как вы расписываетесь?
— Да, конечно. Я дарил ему на День ангела несколько книг и вкладывал туда открытки с поздравлениями. Естественно, я там поставил подпись.
— Список возможных преступников замыкает господин Лесной кондуктор. Итого, — подытожил мировой судья, — под подозрением шесть душ.
— Бес-бес-бес, — выговорил скороговоркой Закревский. — Откуда же ты взялся на нашу голову? Чувствую, и намаемся мы с ним! Ладно, будем думать.
Пристав поднялся, и, подойдя к двери, сказал:
— Благодарю вас, Клим Пантелеевич за помощь. Надеюсь, вы сообщите нам любые новости, как только они появятся.
— Несомненно.
— Не сегодня-завтра, он подбросит новую главу.
— Бесспорно, — поддакнул Дериглазов.
— Честь имею, — попрощался полицейский.
— Честь имею, — ответил Ардашев.
— Позвольте, господа, я вас провожу, — засуетился Толстяков.
Когда визитёры уже спустились вниз по аллее, издатель долго глядел им вслед, потом закрыл лицо ладонями и прошептал:
— Лена, Леночка, милая, прости…
Адвокат сделал вид, что не расслышал. Он достал из кармана коробочку монпансье, положил под язык зелёную конфетку и, оставив Толстякова в одиночестве, пошёл обратно, к дому.
Глава 10. Загубленная душа
Вечер субботы Ардашевы, вместе со Стаховыми и Толстяковыми, проводили на концерте Фёдора Шаляпина, который шёл в театрально-концертной зале отеля «Кавказская Ривьера», напоминавшей огромный вагон. Такое сравнение, как нельзя лучше подходило для этого вытянутого в длину помещения, рассчитанного на шестьсот пятьдесят мест. Вместо кресел здесь стояли венские стулья, и солнечный свет проникал не только из стеклянных дверей, но и оконных проёмов, расположенных с левой стороны; правая же была глухой. В тёмное время суток зала освещалась восемью рядами электрических ламп, прикреплённых к самому потолку. Свободных стульев не было. Многие стояли в проходах, а иные — у открытых дверей.
Со слов Толстякова Ардашев узнал, что король русского баса остановился у своего старого друга Костарёва. Дача была известна в Сочи, как «Вилла Вера», названная так в честь жены владельца, урождённой Веры Мамонтовой.
Стоило Фёдору Шаляпину появиться на сцене, как публика разразилась неистовыми аплодисментами. Певец долго ждал их окончания. Стройный и высокий, в белом костюме, он производил величественное впечатление. Прошло несколько минут, прежде чем Фёдор Иванович подал знак аккомпаниатору и концерт начался.
Первой была исполнена «Ваксихическая песнь», затем — «Пророк». Крики «браво» слились в один неописуемый гул, дополненный бесконечными аплодисментами. А после песни «Молодешенькой в деревне я жила» народ стал скандировать: «Фа-у-ста, Фа-у-ста!». Исполнитель улыбнулся и сказал:
— Милостивые государыни и государи! К сожалению, я не могу спеть «Фауста», поскольку эта вещь трудна для концертного исполнения. Мы же не в опере.
Не давая зрителям опомниться, он перешёл к «Двум гренадёрам». И по зале неслось волшебное, точно спущенное с небес пение:
Во Францию два гренадера Из русского плена брели, И оба душой приуныли, Дойдя до немецкой земли. Придётся им — слышат — увидеть В позоре родную страну… И храброе войско разбито, И сам император в плену! Печальные слушая вести, Один из них вымолвил: «Брат! Болит моё скорбное сердце, И старые раны горят!..
А затем, с потрясающим драматическим пафосом великий певец передал глубину трагедии «Старого капрала» — своеобразную исповедь солдата за несколько минут до расстрела. И зал притих, точно каждый сам представлял себя на месте этого седого служаки, выкуривавшего последнюю трубку — эту своеобразную последнюю грань, отделявшую его от смерти:
В ногу, ребята, идите, Полно, не вешать ружья! Трубка со мной… проводите В отпуск последний меня. Я был отцом вам, ребята… Вся в сединах голова… Вот она — служба солдата!.. В ногу, ребята! Раз! Два! Грудью подайся! Не хнычь, равняйся!.. Раз! Два! Раз! Два! Да, я прибил офицера. Молод ещё оскорблять Старых солдат. Для примера Должно меня расстрелять. Выпил я… Кровь заиграла… Дерзкие слышу слова — Тень императора встала… В ногу, ребята! Раз! Два! Грудью подайся! Не хнычь, равняйся!.. Раз! Два! Раз! Два!..
После исполнения ещё нескольких произведений объявили антракт. В зале было душно, и народ потянулся в буфет. Человеческие ручейки лились через восемь боковых дверей, образуя одну большую реку в направлении нескольких накрытых белыми скатертями столов. У импровизированной стойки продавали пиво «Калинкин» и «Трёхгорное», портвейн № 113, оранжад, бутерброды с балыком, паюсной икрой и ветчиной, шоколадные конфеты россыпью и в коробках, лимонад-газес, коньяки: «Три звёздочки» и шустовский «Золотой колокол». Желающие могли откушать четыре сорта водки. Тут же торговали с лотка мороженым под названием «Снежное-нежное».
Вся компания, за исключением невесть куда подевавшегося податного инспектора, расположилась за одним столом. Холодное шампанское и мороженное пришлись, как нельзя кстати.
С площадки открывался удивительно живописный вид. Красный закат, казалось, подпалил море. В его ярком пламени золотились пальмы, и тлели края облаков.