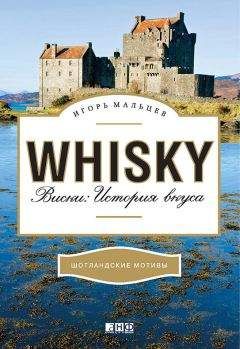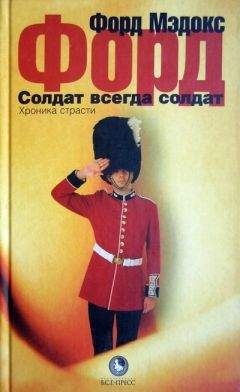Вернулся Саша... Разбирались они до утра - орали на всю улицу, вещи даже ломали. Закрывшись на лоджии, Марья Андреевна отмечала: ваза мамина голубая грохнулась... стул сломали... Хоть бы до телевизора не добрались. Хороший телевизор, цветной, "Славутич".
На следующий день, удивленная тишиной, она открыла дверь в комнату супругов. Среди всеобщего разгрома и хаоса на разложенной софе спали голубки в обнимку. Валялись тут же пустые бутылки и стоял в комнате поганый дух пьянки. Марья Андреевна тихонько открыла окно и вышла.
Зажили по-прежнему, не хуже других. Всякое бывало - и заработки хорошие, и новый сервант с чешской мягкой мебелью по записи приобретенные, и даже концерты в санаториях посещались, на которые приглашали Марью Андреевну со всей родней. А иной раз - хоть в милицию звони - крики да звон битой посуды, а уж выражения... На что Степан в загуле лихим был, но при женщинах язык придерживал.
Однажды Марья Андреевна прозрела - дочке ещё и тридцати нет, а вид потасканный, вымотанный. В глазах огонек пропал и даже в лучшие минуты ни о чем она вроде уже не мечтает. А поет хрипло, словно простуженная.
После какого-то крупного скандала в филармонии, где последние годы работала "Радуга", Анжела из ансамбля ушла. Не хотела стоять на подпевках у другой - молоденькой и наглой. Наглой от того, что маячил за её спиной солидный патрон. А Сашка - остался. У него пошла своя жизнь. Марья Андреевна устроила дочь к себе в санаторий в клуб - массовиком. Но веселиться Анжела разучилась, ходить на ушах перед отдыхающими не сумела. Обосновалась в библиотеке, где и просидела до сорока лет, читая взахлеб все то, что, оказывается, давным-давно написали всякие умные люди со скучным названием "классики".
С Сашкой они больше не дрались, даже не ссорились. Когда он сообщил, что хочет развестись по причине любви к другой женщине, Анжела согласие без всяких возражений дала. А на прощание, закрывая дверь за уносящим чемоданчик Сашей, ещё сказала вслед: "Уж ты прости меня..."
Это ее-то прощать?! И что тюрьму его пережила, скандалы-пьянки терпела, что осталась теперь одна - увядшая, погашенная. А он - с молоденькой француженкой, заехавшей в город отдохнуть, отбывал теперь в Европу. Сорок лет для мужика - самый расцвет. И внешность у него виданая, и манеры как раз для обольщения подходящие: то строг и задумчив, то песни поет и в глаза заглядывает: "Ты у меня одна, словно в ночи звезда..." У него, значит, новая жизнь, а у Анжелы - конец всему.
Однажды светлым сентябрьским утром Анжела пришла домой рано. Было воскресенье - Марья Андреевна ещё не вставала. Дочь опустилась на коврик возле кровати, поцеловала её в щеку и сказала: "Я окрестилась, мама. Теперь у меня другое имя - Анна. И вся жизнь - другая". При этом она улыбалась светло, ясно.
Как же славно они зажили! Пенсия у Марьи Андреевны маленькая. Еще щенок дворняжий в здоровую псину вымахал и все время голодный. Зарплата у библиотекаря незавидная. Полдня Анна в читальном зале сидит, а полдня - в церкви. Детский хор собрала и песнопения с ними разучивает. По субботам и воскресеньям во время службы пение в храме звучит - душа радуется. А уж по праздникам!
Ждала Марья Андреевна Пасхи. А за неделю прихватило поясницу - ни повернуться, ни подняться. Включила телевизор и службу из московского Богоявленского собора смотрела, да все представляла, что в хоре её дочь стоит, вот-вот лицо за другими мелькнуло!
- Хорошо же ты пела, дочка! - встретила мать вернувшуюся под утро Анну.
Они похристосовались и разговелись - пасхой да куличом, да яркими, с цветными наклейками яичками.
- А я тебя сегодня на лоджию выведу - вся вишня в цвету стоит. Окошки раскрою и будем на море смотреть, старые песни вспоминать, хочешь? Утесова, Шульженко...
- Можно сегодня-то такое петь?
- Доброе всегда можно. - Улыбнувшись, Анна тихонько напела: "Тот город, который я вижу во сне, о, если б вы знали, как дорог. У синего моря привиделся мне в цветущих акациях город..." - Я слова путаю, но ведь хорошо, правда?
Сидней Кларк, прибывший из Америки в индивидуальный тур, остановился в хорошей, но не самой дорогой интуристовской гостинице. Однако, и здесь говорили по-английски. Вначале он услышал от администратора "Вэлкам ту Крым". Потом русский осведомился:
- Впервые у нас? Не хотите присоединиться к туристическим группам? Вполне элегантный, хорошо пахнущий мужчина метнул перед Сидом веер красочных проспектов. Тот вежливо отказался.
- Я завтра должен уехать, - и, прихватив совсем легкую сумку, поднялся в номер.
Выйдя на балкон, огляделся, пытаясь сопоставить полученные от Арчи впечатления с тем, что увидел.
Быстро приняв душ, отправился бродить по городу. Везде царило приподнятое настроение, продавались большие,круглые, усыпанные цветными крошками пироги и раскрашенные яйца, настоящие, а также фарфоровые и деревянные. На прилавке магазина в холле отеля и на лотках идущих вдоль набережной, среди прочих русских сувениров пестрели разрисованные яйца.
Сид остановился, разглядывая прилавок. Молоденькая продавщица улыбнулась ему и поздоровалась. Сид ответил. Девушки тут и впрямь были хорошенькие.
- Мистер говорит по-английски? - Подошел сбоку богемного вида немолодой джентльмен. - Интересуетесь настоящими антикварными вещами? Имею от дедушки настоящее пасхальное яйцо работы Фаберже... Возьму недорого...
- Я бедный студент, сэр, - сказал Сид. - У вас праздник?
"Коллекционер" охотно объяснил, что нынче огромное церковное торжество - православная Пасха, а в местном, восстановленном после поругания большевиками храме состоится торжественная служба. И показал рукой на гору, где горели в солнечных лучах звезды на синих куполах и развернутые к восходу кресты.
- На Пасху у нас все друг другу раскрашенные яйца дарят. Не обязательно дорогие. Вот, посмотрите, - девушка поставила на стекло три крупных лаковых деревянных яйца, расписанные цыетами, такими же яркими, как были на металлических подносах и развешанных больших шалях. - Это наш местный умелец делает. У него краски словно из глубины светятся. Секрет особый знает.
- Мисс отлично говорит по-английски, - одобрил Сид и купил самое лучезарное яйцо.
Сид бродил по городу, пока не почувствовал зверский голод. Оказывается, дело шло к ужину, а по американскому времени он уже пропустил и ланч, и завтрак. В уютном ресторанчике на набережной турист съел блюдо, которое ему порекомендовал официант, быстро распознавший иностранца. "Шашлык из барашка", видимо, как раз то, что ел Арчи двадцать пять лет назад в ресторане "Аул" накануне ужасных происшествий. "Знамения. Сплошные знамения свыше". - Сид, в тайне любивший значительность, величественность, монументальность, частенько выискивал в своей судьбе предначертания судьбы, хоть как-то выделявшие его из безликой толпы и компенсировавшие приятными обещаниями преследовавшие его неудачи. А как иначе свести концы с концами в злоключениях недолгой, но уже изрядно поизмывавшейся над ним жизни? Как объяснить себе, почему надо с улыбкой переносить удары и боль? Только предстоящим возмездием и торжеством справедливости.
С семи лет мальчик, извлеченный из-под трупа отца, ждал этого. Он видел распахнутые дверцы санитарных машин, носилики, исчезающие в их темном нутре. Его слепили блицы журналистов, на белой курточке алели пятна разбрызганной везде крови... Он даже не плакал, крепко держась за руку здоровенного полицейского, который в конце концов подхватил Сида на руки и унес подальше от страшного места.
С тех пор судьба не раз подсовывала ему спасательный круг, а потом хохотала - вместо легонькой пробки на шее Сида висел свинцовый груз. Почему же он все-таки остался жив? Почему?
Стоя в толпе православных верующих, окруживших храм, Сид смотрел в яркие, словно игрушечные, купола среди крон цветущих акаций и посылал свой вопрос тому, в которого не верил. И отвечал сам себе: живу, чтобы все расставить по своим местам, чтобы наказать мучителей и быть счастливым, назло втаптывавшим в грязь сволочам, назло тем, кто заставил стать злым. Чтобы меньше страдать, надо было стать циником, чтобы не задумываться о причинах бед - поглупеть. А не мечтать о свершениях, своей собственной миссии на земле мог только отпетый подонок и олух. Сид старался сделаться им. Но чем лучше справлялся он с навязанной судьбой ролью, тем сильнее было желание избавиться от нее. Стать сильным, добрым, нежным. Спасать людей, животных, писать светящиеся радостью картины и любить.
К странной встрече с Арчи Гудвином и его предложением разыскать клад, Сид отнесся скептически. Все выглядело настолько иллюзорно и фантастически, что сомнений почти не оставалось - очередная сверкающая блесна, заманивающая наивного юнца в сети плохой авантюры. Он даже не старался понять, где именно его поджидает угроза - хохочущая маска Арлекина могла выскочить из-за каждого поворота. Но поездка в Россию выглядела соблазнительно. Гудвин оплатил расходы и даже не взял с него никаких обязательств. Лишь тихо предупредил на прощанье: "Не вздумай струсить и отступить, сынок. Я тебя где угодно достану. Просто для того, чтобы плюнуть в лицо". О, Господи, чем только ему не грозили! Плевок - вроде пирожного на фоне "выпущенных кишок", "размазанных по асфальту мозгов", пожизненной каторги или группового изнасилования. Только при чем здесь трусость? Неужели так опасен разговор с русской женщиной? Сид не собирался брать на себя инициативу извлечения и вывоза клада. Эта задача под силу лишь весьма солидной организации, под каким бы названием она не скрывалась.