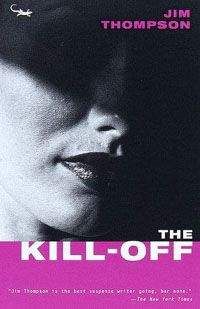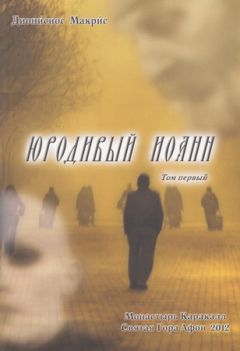Эти бездельники гнали меня отовсюду. Я обошел все кабинеты, один за другим, но из всех меня вышвыривали, выталкивали, выбрасывали и выпихивали.
...По двум серьезным причинам мне очень не хотелось без крайней необходимости снова обращаться к Питу Павлову. Первое — мне предстояло прошагать через весь город, чтобы добраться до побережья, а для человека в моем состоянии мысль об этом путешествии была совершенно непереносима. А второе — я так часто обращался к нему в прошлом, что дальнейшие попытки могли оказаться не только неприличными, но и абсолютно бесплодными.
Однако сейчас мне не оставалось ничего другого. А раз ничего другого не оставалось, я склонился к тому, что мне не остается ничего другого.
Спотыкаясь и шатаясь, я прошел несколько кварталов, вошел в дансинг и приблизился к широкой полированной двери кабинета Пита. Он сидел, склонившись над бухгалтерской книгой, перелистывал ее, ворчал и ругался себе под нос. Я некоторое время подождал, но до того разнервничался, что руки стали дрожать и подергиваться, как осиновые листья.
Я знаю, немного найдется таких, кто так же, как и я, считает Пита Павлова добрым и мягким человеком. Кроме того, и с этим согласятся многие, он далеко не дурак. Малейший намек насчет того, что он глуп, не важно, намеренный или нет, приводит его в бешеную ярость.
Наконец он поднял глаза, вынул изо рта табачную жвачку и выбросил ее в урну.
— Какого черта тебе нужно? — спросил он, вытирая руки о штаны. — Хотя нетрудно догадаться.
— Послушайте, послушайте, что я скажу, мистер Павлов. Несмотря на то унизительное и затруднительное положение, в котором вы меня видите, я чувствую, что призван...
Он рывком открыл ящик стола, достал оттуда бутылку и стакан и налил мне. Я выпил залпом и вернул стакан. Он убрал бутылку в ящик.
— Сказать, что я собираюсь с тобой сделать? Нет, теперь ты меня послушай! Сейчас ты пойдешь в сортир и как следует умоешься — с мылом, черт побери, понял? После этого я тебя накормлю как следует, нормальной едой.
Я ответил, что конечно, конечно да, сэр. Я привык есть только нормальную пищу.
— Вы прямо сейчас можете дать мне деньги на еду, мистер Павлов. Это сэкономит вам время, а время — деньги, и...
— И ты снова нагрузишься под завязку, — ответил мистер Павлов. — Если ты не прекратишь со мной спорить, то вообще ничего не получишь, кроме пинка в зад.
Он говорил серьезно; мистер Павлов всегда говорит, что думает. Я поспешно направился к умывальнику. По крайней мере, это было лучшее предложение из всех, что я получил за день, я хочу сказать — еда, а не пинок. Кроме того, у меня было такое чувство, что к еде что-нибудь добавят.
Я хорошо умылся: вымыл руки, включая запястья, вымыл и те участки лица, которые не были скрыты бородой. Наверное, таким чистым я был в первые тридцать лет своего существования.
После этого я вернулся в кабинет, и мистер Павлов сдержанно меня похвалил:
— С тебя как будто сняли несколько слоев грязи. Почему бы тебе не отрезать эти патлы и не побриться? Ей-богу, стоит. Кроме того, купи простыни и какие-нибудь сандалии.
— Послушайте, что я скажу, мистер Павлов, я все сделаю, как вы велите. И если вы дадите мне денег на парикмахера, а заодно уж и на еду, на простыни и на сандалии...
— Никаких денег я тебе давать не собираюсь. Я отведу тебя в ресторан и сам заплачу по счету.
Я стал протестовать, сказал, что он ведет себя нечестно, потому что строит наш договор на убеждении, будто я способен потратить эти деньги на спиртное. Он что-то буркнул в ответ, а тем временем разглядывал меня, задумчиво сощурив глаза.
— Замолчи, — сказал он. — Черт! Если я налью тебе еще, ты в состоянии будешь помолчать несколько минут, чтобы я мог подумать?
— Послушайте, что я скажу, мистер Павлов, да за еще один стаканчик я бы...
И я замолчал, охваченный безысходностью. А что бы вы почувствовали, если бы вас подвергли подобной медленной пытке?
Я выхватил у него из рук стакан и залпом проглотил содержимое, приметив, что на этот раз бутылку он оставил на столе.
— Гм, — произнес он, когда я протянул ему стакан, — не сейчас. Я хочу сказать тебе кое-что, но должен быть уверен, что ты соображаешь.
— Послушайте, что я скажу, — ответил я, — я только лучше соображаю, когда выпью. И по мере того как я пью, моя сообразительность возрастает.
— Заткнись! — Его голос прозвучал как удар хлыста. — Не вздумай повторять то, что ты от меня услышишь, понял? Не смей никому и слова вякнуть. Предположим, я дам тебе какую-то вещь. Это моя вещь, и я хочу, чтобы ты забрал ее у меня. И никто, ни один человек не должен знать, что именно ты взял у меня эту вещь... Черт побери, да ты меня слушаешь?
— Конечно, конечно да, сэр. Если бы вам захотелось промочить горло, я бы с удовольствием выпил с вами.
— Проклятье, ты только об этом и думаешь! А между тем в твоей жизни могли бы произойти перемены к лучшему, и требуется от тебя всего-то... — Он не договорил и буркнул что-то с отвращением. — Должно быть, я ума лишился, если вообразил, что...
— Вы как будто очень расстроены, мистер Павлов, можно я налью вам стаканчик?
— Налей себе, — проворчал он; я не ожидал, что это окажется так легко. — И пошли наконец в этот чертов ресторан.
Бутылка все еще была почти полной.
Я схватил ее и бросился бежать.
Конечно, это был отвратительный поступок. Я проявил не только неблагодарность, но также и недальновидность, поскольку, фигурально выражаясь, убил ту самую курицу, которая несла золотые яйца. Я поступил так потому, что мне не оставалось ничего другого.
За что, как не за бутылку, хвататься человеку, если он в отчаянии?
Я метнулся к двери, но на пороге споткнулся и выпустил бутылку из рук. Она упала на пол, и я тоже.
Тут я пополз вперед, чтобы до капли вылизать драгоценную влагу.
Внезапно мистер Павлов дал мне такого пинка, что я заскользил по отполированным доскам. Он рывком поднял меня на ноги и заставил повернуться к нему лицом.
— Так вот какой ты сукин сын, оказывается. Убирайся отсюда, да побыстрее! И в ближайшее время не смей показываться мне на глаза.
— Конечно, — ответил я, — но только послушайте, что я скажу, мистер Павлов, я...
— Это ты послушай! Линяй отсюда живей!
— Хорошо, мистер Павлов. — Я попятился от него, чтобы он не смог до меня дотянуться. — Только вы послушайте, что я скажу. Я был бы рад помочь вам в той проделке с ограблением. Даже очень рад. Вы всегда были добры ко мне, поэтому и я испытываю желание сделать для вас что-нибудь хорошее.
Он было двинулся ко мне с угрожающим видом, но вдруг остановился и замер; глаза у него забегали, а лицо налилось кровью.
— О чем это ты болтаешь? — Он нарочно пытался говорить грубым голосом. — Не вздумай это повторить!
— Вы знаете, что я никому не скажу. Я не обижаюсь на то, что вы проявляете по отношению ко мне такое недоверие, потому что та выходка, которую я себе позволил...
Он фыркнул, что прозвучало почти одобрительно. И сказал:
— Ты ненормальный. Пьяный и ненормальный, сам не знаешь, что говоришь.
— Да, сэр, — ответил я. — И я не понял, что вы мне сказали. Я не слушал.
Я повернулся и ушел. Я шагал по главной улице и размышлял, не является ли это самым заурядным грехом, таким, который не чужд нам всем, — желание приписать другим те недостатки, которые мы обнаруживаем в себе? Желание довольно бессовестное.
Правда, нельзя сказать, что я производил такое уж хорошее впечатление, — ни своим внешним видом, ни поступками. Но и о нем этого тоже не скажешь. Он так же мало доверял самому себе, как и я. Как каждый из нас. Мы оба вынуждены носить маски. Правда, они из разного материала, но происхождение у них одно. Что у моей эксцентричности и пьянства, что у его грубости, неотесанности и преувеличенной жестокости.
Нам обоим приходилось маскироваться — и мне, и ему. Да и всем нам приходилось. Но несмотря на всю очевидность этого факта, он его не замечал. Поэтому он не пытался заглянуть под мою маску, как я заглянул под его, чтобы увидеть истинное лицо. Он не пытался заглянуть даже под свою собственную, хотя ему стоило это сделать.
Это было неправильно, и его ждало наказание, хотя кто из нас сумеет избежать наказания?
Но сейчас передо мной стояла другая задача — я все больше и больше нуждался в выпивке.
В конце улицы я заметил девушку, которая стояла у парапета и праздно смотрела в морскую даль. Я скосился в ее сторону, поставив ладонь над глазами. Через минуту она слегка повернула голову, и я узнал в ней певицу из оркестра. На ней был купальник, а платье висело рядом на перилах. Нетрудно было предположить, что у платья есть карман, а в кармане, наверное, тоже что-то есть.
Я завладел ее вниманием и согнулся в низком поклоне, упав на одно колено.
— Послушай, послушай меня, — сказал я, — как прекрасны твои ноги в этих туфлях. О, моя принцесса, твои...